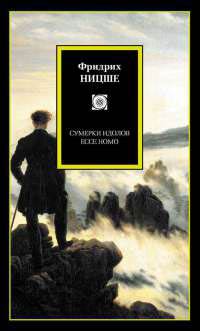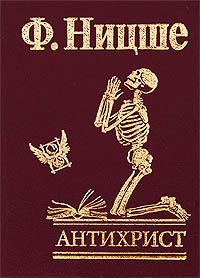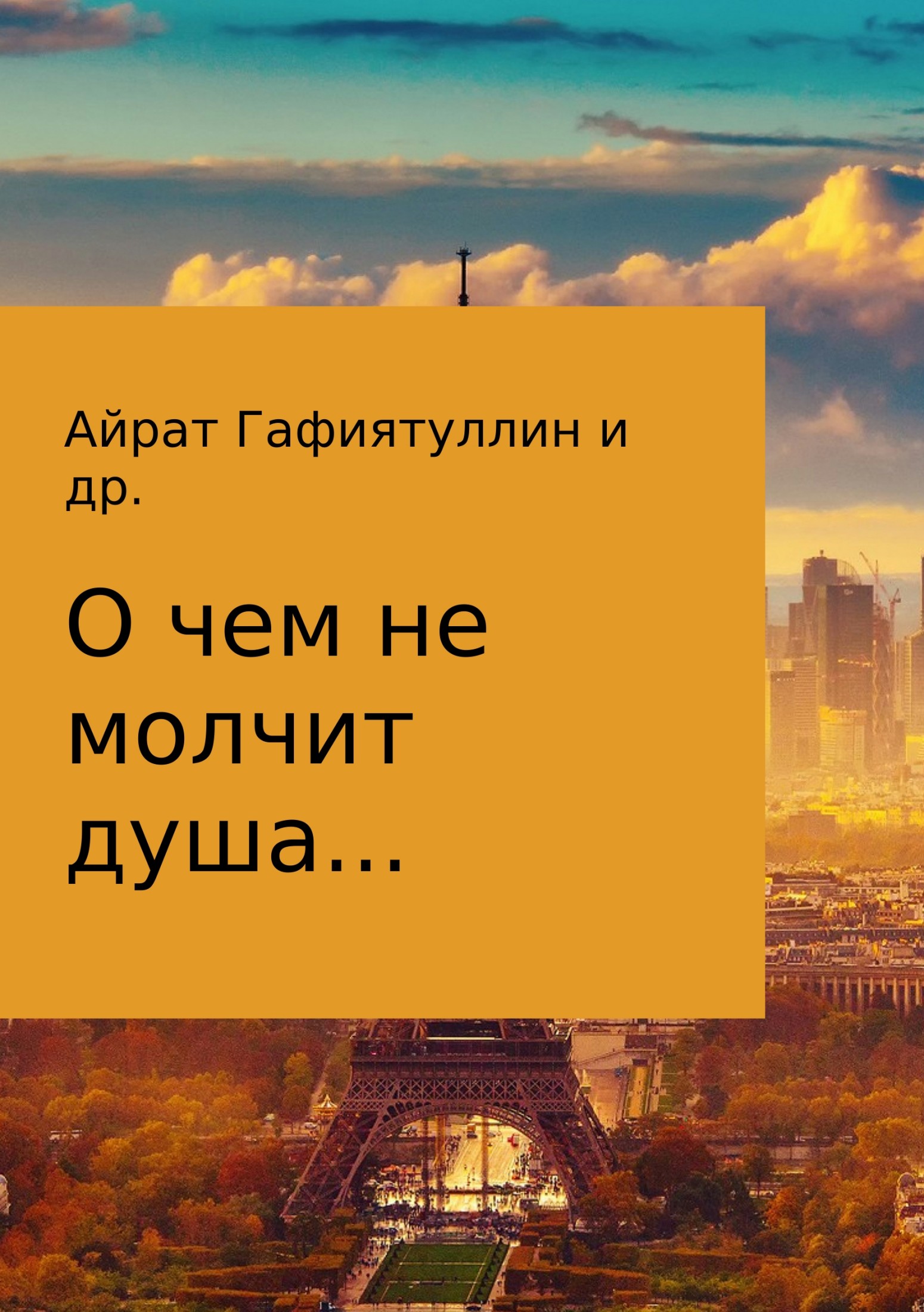судьба отрекается от власти, из круга живых исчезает смерть, и неразрывная связь всего сущего и вечная юность делают мир счастливей и прекрасней.
Я часто поднимаюсь на эти высоты, мой Беллармин! Но стоит лишь начать рассуждать, как я стремглав падаю вниз. Поразмыслив, я открываю, что по-прежнему один со всеми горестями смертного, что нет больше приюта моего сердца, вечно единого мира; природа больше не раскрывает мне свои объятья, и я стою перед ней как чужой, не понимая ее.
Ах, лучше бы я никогда не ходил в ваши школы! Наука, вслед за которой я проникал в самые глубины познания, ожидая по своему юношескому простодушию, что она укрепит меня в моей чистой радости, только все испортила.
Я стал у вас до того рассудительным, до того основательно приучился отделять себя от всего окружающего, что теперь отрешен от прекрасного мира, изгнан из сада природы, где я рос и расцветал, и ныне иссыхаю под полуденным солнцем.
О, когда человек мечтает — он бог, но когда рассуждает — он нищий; и когда его восторг прошел, он стоит, словно непутевый сын, выгнанный отцом из дому, и разглядывает скудные гроши, которые кто-то из милости подал ему на дорогу.
Гиперион к Беллармину
Благодарю тебя за то, что ты просишь меня рассказать о себе и воскрешаешь в моей памяти минувшее.
Меня и привело снова в Грецию желание жить поближе к тем местам, где проходили дни моей юности.
Как труженик погружается в живительный сон, так и я подчас погружаюсь истомленной душой в свое безгрешное прошлое.
Спокойствие детства! Небесное спокойствие! Как часто я безмолвно стою, любуясь тобой, и так хочу тебя постигнуть! Но мы ведь имеем представление лишь о том, что некогда было плохо и затем стало хорошо; о детстве же, о былой безгрешности мы не имеем никакого понятия.
Когда я был еще кротким ребенком и ничего не знал обо всем, что нас окружает, разве я не был совершеннее, чем теперь, после всех сердечных мук, раздумий и борьбы?
Да, дитя человеческое — это божественное создание, пока оно еще не погрязло в скверне людского хамелеонства.
Ребенок всегда таков, каков он есть, и потому так прекрасен.
Гнет закона и рока не властен над ним; он — сама свобода.
В нем царит мир; ребенок еще в ладу с самим собою. Он еще богат, он знает свое сердце, а убожество жизни ему неведомо. Он бессмертен, ибо ничего не знает о смерти.
Однако люди не могут этого стерпеть. Божественное должно уподобиться им, должно узнать, что они тоже существуют, и, еще прежде, чем природа успеет изгнать дитя человеческое из своего рая, люди уже всячески стараются выманить его оттуда и завлечь на проклятую богом ниву труда, чтобы дитя трудилось, как они, в поте лица своего.
Но прекрасно и время нашего пробуждения, если только нас не разбудят преждевременно.
О, это святое время, когда наша душа впервые расправляет крылья, когда мы, всецело во власти стремительного, бурного роста, стоим, окруженные великолепием мира, как молодое растение, которое распускается под лучами утреннего солнца и тянет ручонки ввысь, навстречу бездонному небу!
Как влекло меня тогда в горы и на берег моря! Ах, как часто сидел я с бьющимся сердцем на холмах Тине, провожая глазами соколов и журавлей и отважные веселые корабли, исчезавшие за горизонтом[51]. «Туда, вдаль! Когда-нибудь и ты уплывешь туда», — повторял я и чувствовал себя как человек, истомленный зноем, который бросается в прохладную воду и освежает чело пенистой влагой.
Вздыхая, возвращался я домой. «Скорей бы миновали годы ученья», — часто думалось мне.
Бедный юнец! Они еще далеко не миновали.
И не странно ли, что человеку в юности цель кажется такой близкой? Этим прекраснейшим из всех обманов и пользуется природа, чтобы помочь нам преодолеть нашу слабость.
И когда я, бывало, лежал среди цветов, согретый ласковым весенним солнцем[52], и глядел в ясную лазурь, объемлющую теплую землю, когда я сидел в горах под ивами и вязами после живительного дождя, и ветви еще трепетали от прикосновений небес, и над окропленным влагой лесом шли золотые облака или когда мирно всходила вечерняя звезда вместе с древними Близнецами[53] и другими героями[54], населяющими небо, и я видел, как протекает их жизнь в эфире, следуя извечному, неизменно действующему порядку, тогда я трепетно внимал окружающему меня спокойствию вселенной, безотчетно ему радуясь, и тихо спрашивал: «Ты любишь меня, отец небесный?». И сердце мое с блаженной уверенностью предчувствовало ответ.
О ты, к кому я обращался, словно ты и впрямь был над звездами, кого я называл творцом неба и земли[55], ласковый кумир моего детства, ты ведь не станешь гневаться за то, что я забыл тебя!.. Зачем наш мир не настолько несовершенен, чтобы это давало право искать за пределами его мир иной? [56]
Но если прекрасная природа — дочь своего отца, разве сердце дочери не его сердце? Разве ее сокровенная сущность не он сам?
Но постиг ли я ее? Знаю ли ее?
Мне чудится, будто я что-то вижу, но я тотчас же пугаюсь, словно увидел свой собственный образ; мне чудится, будто я прикоснулся к мировому духу, как к теплой руке друга, но, очнувшись, я понимаю, что это моя собственная рука.
Гиперион к Беллармину
Знаешь ли ты, как любили друг друга Платон и его Стелла?[57]
Так любил и я, так был я любим. О, я был счастливцем!
Радостно, когда равный общается с равным, но божественно, когда великий человек поднимает до себя малых.
Ласковое, прямодушное слово отважного мужа, улыбка, которая таит в себе всепоглощающее величие духа, — это и мало и так много; это точно волшебное слово заклятья, таящее жизнь и смерть в своем простом звучанье; это точно живая вода, которая бьет из недр гор и кропит нас своими хрустальными брызгами, приобщая к сокровенной земной силе.
Но как ненавижу я всех этих варваров, считающих себя мудрецами на том основании, что у них нет сердца, этих жестоких извергов, которые непрестанно мертвят и губят красоту юности своей мелочной и тупой муштрой!
Боже праведный! Да ведь это же сова тщится вывести из гнезда орлят, тщится указать им путь к солнцу!
Прости мне, дух моего Адамаса[58], что я упоминаю об этих людях. Но жизненный опыт обогатил нас именно тем, что мы не в состоянии представить себе совершенство без его