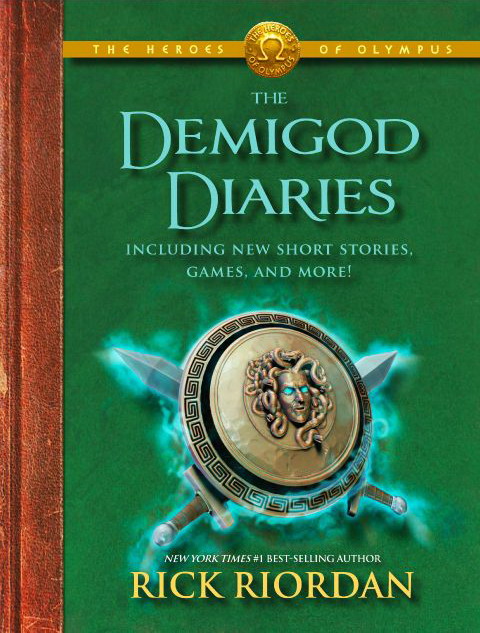Александрович энергично взялся за устройство усадебного рая. Он сам спроектировал будущее пристанище для отдыха, вдохновения, общения, и вскоре невеликий белостенный дом принял под своей крышей первых гостей. Традиционные петербургские ярошенковские «субботы» на Сергиевской в летне-осенний сезон плавно перетекали на кисловодскую «Белую виллу» с просторным балконом-террасой. «Кого-кого на нём не перебывало!» – восклицал Нестеров.
Помимо завсегдатаев петербургской квартиры Ярошенко к кисловодскому дому супругов тянулись молодые художники, писавшие кавказские этюды, артисты-гастролёры. С удовольствием гостили у Николая Александровича и передвижники. В летнюю пору большую часть времени хозяева и гости проводили на террасе, услаждая свой взор видом пышного фруктового сада и ярких цветников. Для неиссякавшего потока гостей к пятикомнатному дому пришлось пристроить несколько флигелей. Усилиями небесталанных друзей и самого Николая Александровича внутренние усадебные стены покрылись уникальными помпейскими росписями.
Во время своих путешествий по дальним и ближним окрестностям Кисловодска Ярошенко знакомился с местными жителями, и они сразу распознавали в нём крепкого духом человека. Художник умел находить общий язык с горцами, и своим уважительным к ним отношением заслужил ответное почтение, что позволяло в поисках интересной натуры посещать опасные места и даже писать с горцев портретные этюды, хотя изображать людей строгими законами шариата, как известно, запрещено.
Когда академическое руководство обратилось к Ярошенко и другим передвижникам с просьбой высказать свои рекомендации по поводу проводимых в академии преобразований, Николай Александрович, полагая, что его мнение выражает общую позицию Товарищества, заявил, что отдельные положительные сдвиги не в состоянии изменить систему в целом. Поначалу уверенность в своей правоте и в моральной поддержке товарищей внушали Ярошенко спокойствие. Вместе с Куинджи он даже разработал иронично-шутливый вариант устава реформированного главного художественного учебного заведения, предусматривавший генеральский чин для приглашённых в обновлённую академию художников-профессоров со специальной формой и прочими анекдотичными преимуществами.
Николай Ярошенко. Около 1898 г.
Здание Полтавского петровского кадетского корпуса, в котором учился Николай Ярошенко. Начало ХХ в.
План кисловодской усадьбы Николая Ярошенко
И вдруг, как гром среди ясного неба, – 25 ноября 1892 года на заседании Совета Академии художеств было внесено предложение о профессорском звании для Репина, Куинджи, Владимира Маковского, Васнецова, Поленова. Подавленный Николай Александрович подозревает Куинджи в том, что тот намеренно способствует пополнению передвижниками преподавательского состава академии, и один из самых близких друзей становится для Ярошенко предателем, которому нет и не может быть прощения.
Несгибаемый Ярошенко, после смерти Крамского ставший у руля Товарищества, считал своим священным долгом блюсти его основополагающие принципы. Николай Александрович неистово восстал против академического профессорства самых выдающихся художников-передвижников, нисколько не сомневаясь, что мощный административный и финансовый ресурс академии навяжет им свои представления, которые, как ржа, проникнут во внутренний мир Товарищества и уничтожат его.
Не все передвижники разделяли точку зрения Ярошенко, искренне полагая, что их появление в академических классах лишь привнесёт много полезного в обучение будущих художников. Наметившееся в рядах передвижников размежевание отозвалось в сердце Ярошенко болью и готовностью к непримиримой борьбе за сохранение единства ТПХВ.
Григорий Мясоедов высказался о категоричной позиции Ярошенко со свойственной ему прямотой: «Конечно, он не мог бы отнестись иначе, как и в прежнее время, и хотя он себе верен и во многом прав, всё-таки он несколько односторонен, очень боязлив и старается что-то охранять, что давно испарилось. Поэтому от него едва ли можно вполне услышать что-либо объективное».
Сам Николай Александрович горестно констатировал: «Что касается петербуржцев, то все они идут в Академию сознательно и с предварительного их согласия. Из них, я думаю, один Брюллов идёт туда без задних мыслей и в надежде принести какую-то пользу, остальные несомненно таят глубоко разные вожделения, и уже нечего говорить, что все без исключения подкуплены тем внешним почётом, который имеет с виду это назначение».
В последний день 1893 года Ярошенко написал Остроухову о свершившемся с плохо скрываемым глухим отчаянием: «…состоялось назначение членов Академии. В число их попало наших 10 членов, которые принадлежат к самым коренным членам товарищества. Для меня это факт чрезвычайной важности, в котором я вижу разложение нашего дела, если только назначенные лица идут туда по собственной охоте… мучительно думать, что выдохлось всё то хорошее, что скрепляло так долго союз людей, и достаточно было поманить немного, чтобы всё кинулось в сторону. Я очень расстроен всё это время и не могу спокойно думать о том, что случилось».
«Вся драма разрыва Ярошенко с товарищами, – вспоминала Анна Ивановна Менделеева, – произошла на наших глазах и отчасти в нашей квартире на “средах”. Не удалось и Дмитрию Ивановичу убедить и помирить их». Великий химик очень уважительно относился к Николаю Александровичу, высоко ценил ум, нравственную безупречность художника и, когда его не стало, признался в одной из приватных бесед: «Год жизни отдал бы, чтобы сейчас сидел тут Ярошенко, чтобы поговорить с ним».
Спустя некоторое время стало понятно, что опасения Ярошенко были несколько преувеличены. Столпы передвижничества оставались верны Товариществу, постоянно участвовали в его выставках, а некоторые, так и не найдя общего языка с академией, вскоре покинули её стены. Любопытно, что из всех передвижников, ушедших в академию, Николай Александрович только в Куинджи продолжал видеть главного врага. Обычно так болезненно реагируют на неизвинительные поступки когда-то очень близких друзей.
Большие разочарования нанесли по уже пошатнувшемуся к тому времени здоровью Николая Александровича серьёзный удар. Давно дремавшая в теле Ярошенко хворь, изначально, возможно, спровоцированная вредными для здоровья условиями заводской службы, стала принимать довольно опасную и тяжёлую форму. В тогдашнем письме Ильи Остроухова можно найти такие строки: «Ярошенко очень нехорош. У него каверны в горле, и Симановский не ручается за хороший исход. Ярошенко всё это знает. Но, как всегда, глядит весело, острит и продолжает вести жизнь здорового человека».
Прогрессирование горловой чахотки не сломило художника. Он говорит теперь шёпотом, но его высказывания, как прежде, умны, ироничны, и слушатели поспешно замолкают, когда Николай Александрович вступает в общий разговор, чтобы не пропустить ни единого его слова. Критик Михаил Неведомский свидетельствовал: «Отличительным свойством Ярошенко было преобладание интеллекта над остальными свойствами психики. Это становилось ясным после двух минут разговора с ним, это виделось и в мыслящих, “внимательных” глазах его».
Болезнь, осложнив устное общение, не заглушила желания делиться с друзьями мнениями, эмоциями. Письма Николая Александровича становятся более многословными и ласковыми, но ко всем, кроме членов своей семьи, Ярошенко продолжает сдержанно-уважительно обращаться исключительно на «Вы». А когда простые люди говорили художнику: «Ваше превосходительство», он с усмешкой раздражения спрашивал жену: «Маша! И когда это ты заслужила и