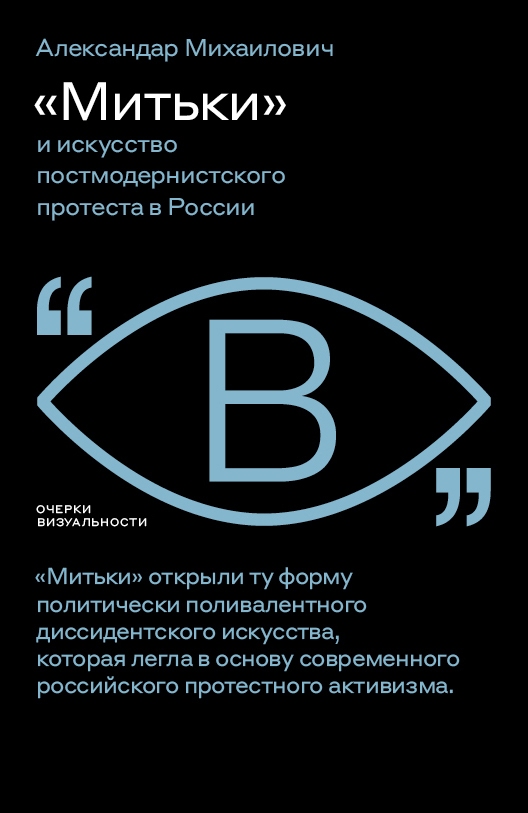рисом и печенью. В начале повествования, по ходу первого празднества, пожилая мать Муси участвует в нем неохотно: утраты, которые она понесла во время войны, затмевают для нее любую радость. Муся относится к делу иначе: «Что делать? Муся не умеет воскрешать мертвых» [Лесовая 2003: 100]. Что Муся умеет, так это жить, готовить еду, наводить чистоту (даже на общей лестнице, которой больше никто заниматься не хочет), купать, не смущая при этом, пожилого родственника, перестирывать горы грязных пеленок и укачивать мучающегося коликами младенца так, чтобы он проспал потом всю ночь: для нее это важнейшие дела в мире. В текстах Лесовой так оно и есть – и не исключено, что это сущая правда.
В «Я люблю, конечно, всех» беременность, тело, роды, насилие и смерть переплетаются между собой. В начале рассказа приготовление колбасы и выпечки приправлено описанием больших круглых животов беременных женщин, пришедших на праздник, грязного нужника во дворе и рассказов мужчин о любовницах, которые у них были во время войны. Перед нами «еврейская политика тела» в своей низшей форме. Все эти образы соответствуют описанному у Бахтина открытому карнавальному телу (см. Главу 1). Однако между Бахтиным и Лесовой есть значимая разница. Хотя Бахтин и делает упор на телесные отправления, тело остается безличным, абстрактным. «Веселый реализм» карнавала с его непрерывным циклом рождения и смерти поглощает индивидуальную память без следа. У Лесовой, в отличие от Бахтина, тело – это всегда чье-то тело, и этот кто-то продолжает жить, продлевая историю и память в будущее.
На примере рассматриваемого рассказа можно продемонстрировать уникальность Лесовой в этом вопросе. На дне рождения один из дядюшек, Фима, вспоминает, как он вернулся в Киев после войны. «Фиме показалось, что внутри у него все вот так же разрушено, что ему восемьдесят лет». Чувство это с тех пор его не покидает, но Фима винит во всем свою мрачную профессию, напрямую связанную с мертвыми: Фима делает фотографии для нееврейских надгробных памятников («эти гоише похороны… цветные портретики на керамических овалах») [Лесовая 2003: 128–129]. Впрочем, Фима признает, что именно эта угрюмая работа позволяет ему кормить четверых детей. Профессия Фимы накладывает отпечаток и на семейные портреты: один из персонажей жалуется, что на всех Фиминых фотографиях люди выглядят мертвыми. Трагическая история оставляет свой отпечаток на предметах из домашней жизни, однако она же позволяет этой жизни продолжаться.
Гехт, Горшман, Альтман, Рубин и Калиновская каждый по-своему фиксируют момент и место, где время остановилось, а потом пошло дальше, – момент, когда часы стали годовщиной смерти, согласно строке Бергельсона: «йедер зейгер а йорцайт» («каждые часы – годовщина смерти»). В «Я люблю, конечно, всех» йорцайт – годовщина смерти – включена в цикл семейных праздников. Мальчик-именинник хвастается одному из гостей, что у него два дня рождения, восьмое июля и первое августа. В один из этих дней он действительно родился, другой же – дата массовой расправы: «Это потому, что восьмого июля убили папину старую жену и старых детей» [Лесовая 2003: 112]. В семье ведут свой собственный календарь воспоминаний, однако не живут полностью в его тени. Годовщина смерти переносится в другой контекст, в качестве второго дня рождения ребенка, и становится частью чередования будней и праздников, причем каждый повод отмечается, вспоминается, сопровождается застольем и приемом гостей. Лесовая не употребляет слов на идише «вохедик» и «йон-тевдик», однако описывает связанные с ними практики.
Лесовая – писатель, родившийся после войны, в ее тексты включены события конца XX столетия, поэтому ее представления об историческом полотне уводят ее в направлениях, которыми не пользовались писатели более старшего поколения. В конце «Я люблю, конечно, всех» маленький мальчик-еврей, у которого было два дня рождения, уже стал кадровым военным и вот-вот должен отправиться в Афганистан. Война в Афганистане, последняя война советской империи – во многих смыслах эквивалент американской войны во Вьетнаме, – оставила за собой обесчещенных, обездушенных, очень часто покалеченных участников. После Второй мировой войны были поставлены официальные памятники и учреждены дни, когда отдавали дань павшим; после войны в Афганистане – нет. В конце «Я люблю, конечно, всех» другие члены семьи уже уехали в Канаду и Израиль, где их ждала новая трагедия. Один из родственников убивает всю свою семью. Ужасное насилие раз за разом повторяется в рассказе, но чувства, которые оно вызывает, не сводятся только к ужасу.
Однако насилие, даже очень масштабное, никогда не становится у Лесовой самоцелью, как у Бергельсона и Бабеля. Пояснить это можно небольшой, но красноречивой деталью. В рассказе Бабеля «Гедали», где действие происходит в годы Гражданской войны, рассказчик бродит по улицам почти обезлюдевшего Житомира: «Вот предо мною базар и смерть базара. Убитая жирная душа изобилия» [Бабель 1990,1:29]. У Лесовой, напротив, «жирная душа изобилия» возвращается к жизни, и это видно не только из подробных описаний всевозможных яств, но и из аллюзии именно к этой строке. В рассказе «Вверх по Фроловскому спуску» описание базара начинается так: «Неистовое, гордое изобилие базара! Тугой круговорот толпы!» [Лесовая 2003: 342]. Эта каденция позаимствована у Бабеля, однако, в отличие от Бабеля, Лесовая наблюдает не кончину еврейской общины, а продолжение ее полнокровной жизни.
Авторы-евреи, писавшие как на идише, так и на русском, и до, и после Второй мировой войны «сохраняли верность местечку», невзирая на его уничтожение. Созданный литературным воображением мир стабильной еврейской жизни XX века – совершенно неожиданная черта еврейской литературы в России и на Украине советского и постсоветского периода. Контуры этого мира заданы заранее; здесь все, что делается, делается по-еврейски; время движется упорядоченной чередой будней и праздников; катаклизмы случаются, но мира не разрушают. Место и время привязаны друг к другу; как отмечал Кипнис, его местечко Словешне не может в пятницу оторваться от Шаббата, что бы ни случилось. Персонажи вписаны в этот замкнутый еврейский мир, и даже если они его покидают, то увозят с собой его ритмы. Такой образ провинциального еврея резко контрастирует с более распространенным портретом мобильного космополитического еврея, который дома и везде, и нигде. Общественное положение еврея как посредника, переговорщика и агента, а также стереотипы, связанные с этими ролями, были широко распространены в царской России. Установление в 1920-е годы советской власти открыло евреям новые пути в только что созданную элиту. В Главе 7 рассмотрены всевозможные способы, которыми евреи вживались в свои роли переводчиков и посредников внутри культуры советской империи. Советское общество использовало космополитический потенциал евреев (которые никогда не упускали открывшихся перед ними возможностей) и одновременно демонизировало евреев за создание космополитической культуры