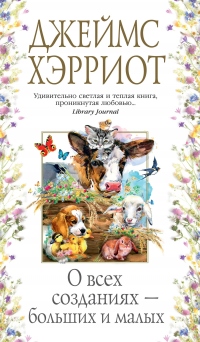Америки, как цыплята Малкольма Икса, вернется домой на насест. В их голосах звучала сердечность, готовность помочь, воодушевление с акцентом на изначальном «душа». Люди сплотились самым невероятным образом.
Горит огонь, из книги знание черпнув…[133] Под обломками несколько недель горел огонь, пока наверху спасатели искали выживших. Каждый день монтажники натыкались на пару чьих-то ботинок с оплавленными подошвами, не выдержавшими раскалившихся полов. Иногда, все реже и реже, слышались два свистка, и со всех сторон кричали: «Тихо! Тихо!» – и все застывали, иногда целая тысяча – замирала техника, все вокруг, погружаясь в глубочайшую, ужасающую тишину; большинство снимало каски и шлемы, в ожидании, пока на носилках не вынесут тело или фрагменты тел. И так было каждый раз.
Из всех, кого знал Джордж, Артур всегда был в самой гуще событий, и не только в тот день, но и спустя недели – позже, вспоминая об этом, Артур каждый раз терял самообладание, каждый раз срывался. Но пока он был там – около десяти дней он потратил на то, чтобы замаскироваться под рабочего и поснимать там позаимствованной на время «Лейкой», которую прятал под рубашкой. Снимал людей, что несли носилки, людей, стоявших на вершинах искореженной груды металла, на фоне ослепительных, словно магнезия, лучей строительных прожекторов, словно призраки в пыли. Они одновременно напоминали астронавтов, солдат и испанских конкистадоров.
Несколько недель в даунтауне стоял неописуемый запах: едкий, зловещий, ядовитый, настолько осязаемый, что казалось, его можно было нарезать острыми ломтями и завернуть в оберточную бумагу.
Но он был нужен Джорджу. «Браун» обеспечивали рабочих кофе, чаем и едой, и Джордж записался волонтером на ночные работы три раза в неделю с ночевкой в часовне Святого Павла. Ему не хотелось отсюда уходить. Этот запах принадлежал ему, был его болью, возвращая его в реальность, как возвращал в реальность призрачный белый свет, ту, где снова и снова рушились, рушились, рушились башни.
Часовня стояла к северу от места катастрофы, которое все теперь называли «эпицентром», все, кроме него: он впадал в бешенство от того, с каким удовольствием люди впитывали всю военщину. Даже те, кто был ярым противником этого термина, не выражали недовольство иначе как шепотом. Патриотизм был превыше всего, Единственно Верным Ответом Америки, но он не мог его разделять. Не мог понять культуру, общество, страну, выступавшую против войны двадцать пять лет назад и так страстно желавшую войны теперь. Он не знал ни одного любителя флага, протестовавшего против войны, против убийств, которые одобряли тем чаще, чем темнее был цвет кожи жертв. Гнев распространялся по его телу, словно вирус, от этого его тошнило.
Он не мог смириться с тем, что ее больше нет. Не мог этого осознать. Не мог понять, что она умерла, что он больше никогда ее не увидит, что его горе будет рождать цепочку воспоминаний, мгновенных вспышек, сменяемых подавлением чувств и болью, не мог пережить то, что ее не стало вот так, вот здесь.
Яма – даже не яма, а невообразимый ландшафт развалин – напоминала место приземления корабля пришельцев, излучая блуждающий белый свет, галоидный, такой яркий и интенсивный, какого еще не видывал свет, сияние такой силы, что было видно с Уолл-стрит, с реки, позволявшее денно и нощно расчищать завалы стали, стекла и бетона, приправленные прахом двух тысяч восьмисот человек. Рабочим, выполнявшим эту гибельную в физическом, психическом и моральном смысле задачу, полагалось питание, массаж, отдых, форменная одежда, помощь подиатра, акупунктура и прочие лечебно-оздоровительные мероприятия, включая психотерапию в часовне, что едва не пострадала, когда пали башни и обгорели соседние здания, но выстояла, оставшись самым старым зданием на Манхэттене, где когда-то читал проповедь Джордж Вашингтон. Даже проводя время в школьных командах по футболу и борьбе, Джордж никогда не видел таких здоровяков, как эти слесари, приехавшие со всех штатов, чтобы работать на месте катастрофы. Обхват груди у каждого был не менее пятидесяти дюймов, а у многих грудная клетка была шире на целую дюжину или даже больше. Росту в них было от пяти футов и шести-семи дюймов до шести футов, не намного больше. Высокий рост здесь не давал преимуществ. В церкви была куча одежды: спортивных штанов, толстовок и всего прочего – ее свозили со всей страны, всех размеров, от S до XXL, и если бы нашелся размер в два раза больший, чем самый большой, она подошла бы кому-то из ребят, что бродили на верхних галереях часовни, там, где была сложена одежда, примеряли рубашки и смеялись. «Тимберленды», предоставленные компанией, пользовались большим спросом, их тоже везли вагонами. В первые недели обеды подвозили четыре раза в день фургонами из «Юнион-Сквер», «Даниэль» и других дорогих ресторанов. Белый свет на окружающих улицах становился еще белее из-за пыли в воздухе, перманентной белой дымки, зависшей на два, три, четыре этажа над тротуаром. Он помогал разгружать еду, общался с другими волонтерами, душевное состояние его было таким, что поговорив с кем-то, десять минут спустя он не мог впомнить ни человека, ни предмет беседы; в течение часа он дважды представился одной и той же женщине – худой, деятельной, на раздаче позднего ужина в одиннадцать вечера – и едва не сделал то же самое в третий раз.
– Простите, я сам не в себе, – извинился он.
– Вы кого-то потеряли?
На такой вопрос он еще не отвечал. Прямо его не задавали, спрашивали «были ли вы с кем-то знакомы?» или «ваша семья в порядке?», но, услышав «Вы Кого-то Потеряли?», он почувствовал, как желчь подкатила к горлу.
– Да.
– Мне очень жаль. Погибло так много людей. Ужасно много.
– Да, да.
Смерть вывела их из строя. Он был взрослым, состоявшимся мужчиной, имел вес в определенных кругах, а вместе с тем влияние и ответственность; ему не хотелось плакать здесь, в часовне Святого Павла. Ему хотелось сделать свою работу, а затем пройтись, отдохнуть – здесь никому не дозволялось разгуливать просто так.
– Я из компании «Браун». Мы занимаемся кофе и чаем.
– О, – она заметно оживилась. – Спасибо.
– Еще мы работаем над тем, чтобы чем-то помочь и на других фронтах.
Разговор вошел в привычное русло: теперь он представлял компанию, говорил о делах, снова мог функционировать. Продолжал существовать, процентов на десять; в остальном он был ошеломленным, измученным заключенным, вокруг которого вдруг воздвиглись тюремные стены, и он стоял перед одной из них, выщербленной, исписанной граффити, стеной боли и горя.
Бывают мгновения, когда ты точно знаешь, что сейчас изменится вся твоя жизнь; другие пролетают незаметно, и только позже понимаешь, насколько