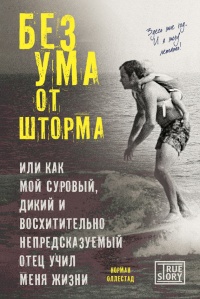– А хлопнуть лимонадику, ангел мой, под рачки не желаешь?
– Гад, не кощунствуй!
– У нас в доме, Олечка, с нынешнего дня водкой и не пахнет.
– Так!
– Взгляни: на столе ни единой рюмочки.
– Где мое пальто?
– На вешалке.
Пыжова отправляется за ним, но по дороге по причине мне не понятной раздумывает уходить. Я приветствую ее возвращение:
– Здравствуйте! Прошу к зеркалу. Вам, сударыня, необходимо попудриться.
– Неужели даже вспотела с горя?
Она хватает пуховку и, подув на нее, страстно пудрится:
– А вы слыхали, ребятки, какая в нашей семье трагедия?
– Понятия не имеем.
– В МХАТе Васеньку обидели. Смертельно!
– Да что ты?
– Сегодня на доске вывешено… о «Трех сестрах». Немирович снял Качалова с Вершинина. Играть будет Болдуман.
– Что?..
Зрачки у Никритиной расширяются от возмущения:
– Неслыханно!
– Обычное театральное идиотство, – говорю я. Она продолжает кипеть:
– Терпеть не могу режиссеров! Особенно гениальных!
– Ух, парадоксик! – воскликнула Пыжова. – Дай я тебя за него чмокну! Нашего малоносого Оскара Уайльда.
– Да! Предпочитаю самых бездарных режиссеров. Эти хоть работать не мешают! Ролей не портят! И спектакли тоже! Своими выкрутасами… Качалов, видите ли, им плох, а Болдуман хорош!
– Театр падает и падает, – произносит Пыжова с надгробной интонацией. – Что будет?
Я успокаиваю:
– Он, Олечка, третье тысячелетие падает. Уже в Древнем Риме трагика победил комедиант, комедианта – акробат и акробата – гладиатор. Будьте философами, мои милые акт рисы. Болдуман все-таки не гладиатор. А вот то, что в конце концов футбол победит Станиславского и Мейерхольда, в этом я не сомневаюсь.
Часы бьют семь.
– Наша Ниночка, – говорит Пыжова, – у расписания чуть в обморок не грохнулась. Спасибо, Борис Ливанов локотком подпер.
– А потом что было?
– Побежала, прихрамывая, к Немировичу.
– Правильно! – гремит Никритина. – И выдала ему?
– Кинулась на него, как тигрица.
– Правильно!
– Борис у дверей в щелку подглядывал. Плечиками, говорит, трясет: «Сами, Владимир Иванович, сами объявите Качалову эту новость! А меня уж увольте от этого. Увольте! Я домой не пойду, пока вы ему не объявите. Так в театре и буду ночевать…»
В эту минуту у парадной двери раздаются наши четыре звонка.
– К нам!
– Ка-ча-ло-вы! – шепчет Никритина и в полном изнеможении садится на табуретку. – Иди, Толя. Встречай. А я не могу. Чего доброго, разревусь.
– Вот тебе и раки с лимонадом! – мычит Пыжова. Иду. Повертываю ключ. Снимаю с двери цепочку.
– А Василию Ивановичу-то в Художественном театре в морду плюнули.
Этой фразой здоровается Литовцева. Такое приветствие не явилось для меня неожиданным. Наша подруга имела обыкновение брать быка за рога и говорить прямыми словами о том, что происходит в мире.
– Почему же в морду? Почему – плюнули? – спокойно возражает Качалов. – Всего-навсего хорошую роль у меня отобрали. И не по злобе это, Нина. А из художественных соображений. Театр-то у нас Художественный.
– Ах, Василий Иванович, вечно ты со своим прекраснодушием! Юродивеньким прямо стал. Блаженненьким! Толь ко железных вериг на твоей старой шее и не хватает.
В этом злосчастном кругу продолжает вертеться наш разговор.
– Раки!.. Раки!.. Раки!..
Хозяйка выносит их на большом фаянсовом блюде. Дымящиеся, пунцовые, они прелестно пахнут лавровым листом и похожи на причудливые цветы абхазских полутропиков.
За Никритиной на расстоянии аршина вышагивает Пыжова, торжественно неся над головой лимонадные бутылки:
– Лимонадик!.. Лимонадик!.. Лимонадик!.. Разноцветные глаза ее сверкают злорадством:
– Холодненький!.. Сладенький!.. Сахариновый!..
И она издевательски ставит бутылки перед Качаловым. Он, как известно, никогда не был горячим сторонником сухого закона.
– Откупоривай, Вася. Откупоривай, родненький, свой любимый напиток.
Это ее месть. Лимонадная месть.
– Давай, Ольга, штопор.
– Извольте.
– Премного! – невозмутимо благодарит Качалов. И умело откупоривает бутылку за бутылкой.
– С каким удовольствием, Васенька, ты их откупориваешь. Смотреть любо.
Гости и хозяева принимаются за раков. Стопки то и дело наполняются шипящей водицей на сахарине.
Через самое короткое время Качалов говорит:
– Прошу прощения. И выходит из-за стола.
– Ты это куда, Василий Иванович? – дрожащим голо сом интересуется Литовцева.
– Прошу прощения, по надобности. Качалов уходит. Возвращается.
С аппетитом ест раков. Но… минут через десять опять поднимается со стула.
– Ты, Василий Иванович, что-то постарел. Больно уж часто бегаешь.
– Вероятно, Нина, это из-за лимонада. С непривычки, видишь ли.
Супруга беспокойно ерзает на стуле:
– Уж лучше б нарзану купили.
– А еще лучше бы, Ниночка… Литовцева перебивает:
– Ваших советов, Василий Иванович, не спрашивают.
– Молчу.
– Ты же сама, Ниночка, распорядилась, – оправдывает ся огорченная хозяйка.
– Откуда же я знала, что он так разбегается от лимонада. Пыжова ворчит:
– Проклятые раки! Работы с ними не оберешься! Пропа ди они пропадом!.. А ну-ка, хозяюшка, дай мне еще рачка.
На ее тарелке целая гора красных панцирей, разодранных клешней, выпотрошенных животов и длинных морд с черными выкатившимися глазами, похожими на крупную дробь.
Качалов опять величественно удаляется.
– Третий раз за какие-нибудь полчаса! – презрительно фыркает супруга.
– Ниночка, не волнуйся, – успокаивает Пыжова. – Это полезно.
– Просто-напросто старческое недержание. Больше, Василий Иванович, тебе не дам ни глотка.
Она говорит ему и «вы» и «ты». По настроению. А сын Дима называет отца «Вася». Это тепло, это дружески. С Василием Ивановичем легко и сыну дружить.
Вслед за Качаловым робко выхожу и я.
– И ты туда же! – еще презрительней фыркает Литовцева.
– Оля говорит, что это полезно.