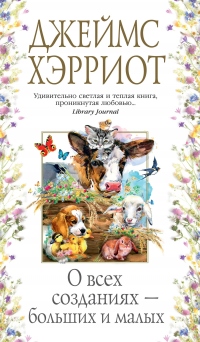и раскалывалось, и на мгновение она увидела клочок сияющего неба, и затем – время податливо, в критический момент оно растягивается, – до того как все скрылось во тьме, она успела подумать о родителях, о Джордже, о Джордж, если бы у меня было на полчаса больше, я бы, наверное, выбралась, но ее время вышло, она рвалась вперед, вспыхнула пламенем в ружейном стволе, и затем ее раздробило. Ей оставалась лишь жалкая доля секунды на самозабвенное осознание того, что ее тело разрывается, что ее перемалывает неодолимая сила, и она исчезает, и не было боли – все случилось так быстро, и ее объяла пустота, тьма, и был ослепительный свет… Здесь было все и не было ничего: между всем и ничем, меж ничем и всем. И был звук, и был свет. И свет погас. Настала тишина. Настоящая тишина. Ей так понравилась тишина. И стало темно. Тьма ей тоже понравилась. Вот перед ней – дитя. Ждет ее. Она узнала его. Этот ребенок и есть она. Это она, но не она, дитя любило ее. Это дитя – сама любовь. Дитя было приятной ношей, приятной была безмолвная тьма, и в ней хотелось просто раствориться. Все было таким приятным. Ребенок, безмолвие, тьма. Свет колол ее, словно булавка. Любовь. Та, которой она так и не познала – нет, она знала, знала всегда. Она всегда была рядом, за пределами восприятия. Вот она. Безмолвная любовь безмолвного ребенка в молчании тьмы. Любовь – не вовне, внутри – любовь, что была ее любовью, и ее любовь была подобна любой любви.
Вся эта любовь. Вся эта тьма.
Они поглотили ее.
Что же это было? Сознание не спешило следовать за телом. Полсекунды, секунда привычного времени, заключавшие в себе бесконечность, нарастание интермедий, немыслимое очищение, где исчезаешь спустя полсекунды… Она не скучала ни по песку, ни по волнам на океанском побережье, ни по лучам света, что пробивались свкозь кроны лесов. Пряному осеннему воздуху. Лицам детей. Потребности любить, приливу наслаждения. Чувственной любви, голоду, боли, облегчению; вкусу кофе, свежего лайма или спелых августовских томатов, мелкой римской клубнике в июне, мириаде оттенков цвета. Теперь все было в ней, все виделось в идеальном свете – не нужно было скучать по чему-то, все было здесь. Все вмещал в себя всего один миг, бесконечный миг, и «здесь» значило «там» и «везде». Тысяча лет или один только день… Она все еще чувствовала вожделение, хоть в нем и не было нужды. Было ли правдой то, что на самом деле никто не любил ее по-настоящему? Нет, не было, и это было очевидно – очевидно, что ее любили бесконечной, особенной любовью, и то были проявления одной и той же любви, как любые два слова – проявлениями одного и того же языка. Ее любили до начала времен и любили в ее времени. Она видела своего брата – совершенно сломленного. Он любил ее. Думал о ней каждый день, конечно, думал и все еще думает. Где-то на юго-западе, в городе под безжалостным палящим полуденным солнцем, сгорая от стыда и бессмысленного ощущения собственной никчемности. Бессмысленного, так как в чем нужно было преуспеть, чтобы прикоснуться ко всему этому или что-то изменить? Она видела Джорджа, который любил ее, наконец признался ей в этом, доказал это, пусть даже неловко – на самом деле он любил ее всегда – он бродил там, среди дыма и пепла. Она видела его тоску и горе. Тоску, тоску, что влачится за людьми час за часом, день за днем. Горе, чувство утраты и беспросветной надежды – она видела это в нем, и в своем сломленном брате, и в своих слепых, невежественно упрямых родителях – но в ней самой тоски больше не было. В ее настоящем было все, все было известно, тосковать было не о чем, все было здесь, сейчас, всегда: состояние непреложной очевидности. И этот миг никогда не уступит место следующему, предсказуемому мгновению – а потому тоска была невозможной. Она видела всю тоску мира, как звездную ленту, как полосу обломков кораблекрушения, что ширилась на пляшущих морских волнах, страдание, что росло, как луна, стремясь к неразличимому горизонту: бесконечную тоску человечества, с которой можно было бы покончить навсегда. Но никто из них не знал как.
Часть третья. Вдали от пределов безумной тоски
26
По воле Бога день, когда они потеряли свой город, был невыразимо прекрасным. Насыщенно-голубое небо, прозрачное, чистое, объяснить это можно было лишь особым вмешательством свыше, на нем не было ни облачка, ни следа, и так было еще много дней. Тем утром, незадолго до того, как первый самолет врезался в Северную башню, Джордж шагнул за порог дома, собираясь отправиться в даунтаун, и все, что он видел на улице перед собой, вырисовывалось в этом особенном свете. Весь зримый мир полностью выражался в трех видимых измерениях. Каждый предмет, каждый человек, каждый каменный карниз, и металлическая решетка, и каждый жест, почти каждый выдох (как будто он триповал и видел в воздухе человеческое дыхание) требовали своего места в вечности, и он не мог сомневаться в реальности всего, включая, как он узнал позже, разрушение, масштаб которого стал возможным благодаря капитализму и пугающе привычным благодаря оглушающему засилью его развлекательной индустрии. Об этом говорили люди, когда видели это в телевизоре, все было как в фильме, виденном всеми когда-то, но те, кто столкнулся с этим вблизи, говорили иначе. Он наблюдал за происходящим, стоя на углу 23-й и Пятой (поезд с Седьмой авеню в конце концов сдался на станции «23-я улица»), у входа в парк Мэдисон-сквер, он видел каждое ребро, каждую деталь серебристых башен и рваные края чудовищных ран, блеклых черных дыр, вокруг которых плясало пламя, откуда валил серо-черный дым – на Южной башне дыра была ниже, чем на Северной. Но входное отверстие раны Северной башни было куда больше. Невероятный матовый черный цвет, ни намека на свет – ни единого луча, – он подумал, что во всем мире никто и никогда еще не видел такой черноты. Абсолютно черной, пустой, бесконтрастной. Наружу рвались языки пламени: воистину, вот адские врата. Он смотрел на Южную башню. Она была там. Он это знал. Сразу после девяти, когда он услышал об этом в новостях, он пытался дозвониться ей на мобильный и на рабочий номер, сперва были короткие гудки – разве сигнал «занято» еще существовал? – теперь