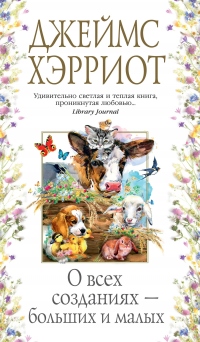придется продавать свою квартиру. Что и где в этом мире могло принадлежать ей? Но на столе лежала заметка: номера трех риелторов с рекомендациями от друзей и коллег. Жизнь налаживалась. Секс тоже: он больше не боялся того, что пугало его прежде. И ей очень нравился Нейт, и даже Марина, когда они виделись с ней в Нью-Йорке. Казалось, что Марина радуется за них. В основном Марина всегда была чем-то занята. Во всех разговорах в их семье присутствовали нотки иронии, но беззлобной, за шутками скрывалась глубокая привязанность друг к другу. Она была встревожена больше, чем когда-либо. Иногда, глядя на Джорджа, в особенности на его могучую, бесхитростную спину, совсем как у каменщика, чувство любви к нему переполняло ее, рвалось из горла, наполняя глаза слезами, до боли. Она подавляла его, снова и снова. Она не спешила говорить ему об этом. Свои чувства она подогревала на самой маленькой горелке.
8:46. Чашка с кофе слетела со стола, обожгла ей руку, затем упала она сама, кофе пролился на бумаги, бумаги разлетелись по полу – все случившееся она осознала за долю секунды, прежде чем услышала звук удара невероятной силы. Молнией мелькнула мысль: землетрясение, колоссальное землетрясение случилось в Нью-Йорке. Но нет. Потом все было как в тумане. Свет погас, включилось аварийное освещение. Пронзительно выла сирена, перекрывая крики со всех сторон. По громкой связи что-то объявляли, но из-за шума ничего нельзя было разобрать. Сирена смолкла, и они слышали, как всех просили оставаться на рабочих местах, ожидая дальнейших инструкций. Гнали полную лажу: все это понимали. Понимали, потому что дым уже вползал в каждую брешь в броне их офисов. В один миг стало жарко: здание нагревалось. Ее коллеги, люди вокруг обнимались, держались друг за друга, говорили, что все будет хорошо, говорили, что на мобильном нет связи, и все вместе они пошли к лестницам – шестьдесят два этажа вниз, просто невообразимо.
И она начала спускаться вниз, первый пролет, второй, пятый – пары безразличия – как угарный газ, которым сочился вдыхаемый воздух. Она чувствовала его, словно анестетик, тормозивший ее, и шла все медленнее и медленнее. Что-то помимо дыма, невероятно едкое, словно в бронхах и легких кто-то развел костер из пластмассовых ножей, жуткая дрянь, от которой все равно умрешь, даже если выберешься. Люди задыхались и плакали. Но все равно спускались вниз. Те, что останавливались, оставались на лестничных площадках, хватаясь за стены. Она видела, как кто-то заходил на нижележащие этажи, и думала о том, что они хотели там найти. Она продолжала спускаться вместе с остальными, никто не говорил ни слова, но слышались отчаянные стоны, кто-то плакал, она смотрела на них, будто была не здесь и не сейчас, будто уже стала частью истории. Когда они прошли уже примерно пятнадцать этажей, стали попадаться поднимавшиеся навстречу пожарные, каждые тридцать секунд они проходили мимо людей, мимо нее, снова и снова, мужчины, похожие на безмолвных пришельцев в чудовищных масках и с баллонами на спине, штурмовики с картин Отто Дикса[132], что шли вперед в воздухе, полном яда, жженом воздухе, который она вдыхала. Ей становилось все хуже, но она старалась не обращать на это внимания – или придавала этому меньше значения, чем сочла бы разумным до сегодняшнего дня, – она думала только о том, что надо идти вниз, вниз, вниз. Она прошла уже так много пролетов: шагшагшагшагшагшагшаг, поворот, шагшагшагшагшагшаг, поворот – снова и снова, по спирали, все ниже, ниже, ниже. Ей хотелось снять туфли, но пол был слишком горячим, и повсюду было битое стекло. Вдруг до нее дошло, зачем люди оставались на этажах, а не бежали вместе с остальными. Они хотели выбраться наружу. Должно быть, они разбивали стекло между декоративными балками снаружи и прыгали вниз. Ну конечно. Свежий воздух облегчал их страдания. Она не видела номеров на дверях, аварийное освещение было совсем тусклым, валил жирный дым, она пыталась считать пролеты, но сбилась со счета. Она прошла уже двадцать, может, двадцать пять этажей. Где она находилась? На сороковом этаже? Тридцать пятом? Может, она ошибалась, и до вестибюля осталось всего двадцать – двадцать пять этажей? Было жарко, и становилось все жарче. Пожарные шли вверх, остальные – вниз, не говоря ни слова, люди плакали, но не кричали, по крайней мере, так ей казалось, или просто не слышала этого, так как повсюду слышался рев, и стояла невероятная, ревущая тишина – может, таким и был ад, ревущее пламя, звук истязаний, безмолвие людей, полная тишина – бессловесное мясо, голая субстанция, люди, что шли впереди и позади: все молча уходят. Она хотела остановиться, пришло время остановиться. Она чувствовала, как дрожит все здание, остановилась на следующей лестничной площадке и отошла в сторону, она чувствовала, как оно качается, кренится, всего на несколько дюймов, вперед и назад, меж ветром, огнем и неизмеримой массой бетона, стали и человеческого ужаса. Все содрогалось. Был слышен гулкий рокот, словно дрожала земля. Но безразличие действовало как наркотик: все живое вокруг съеживалось, проваливалось в туннель, и не осталось ничего, о чем стоило заботиться, переживать, нечего было бояться, осталось лишь всеобъемлющее прощение: свобода. Свобода и прощение были одним и тем же, одним мгновением: делая шаг навстречу свободе, ты обретал прощение. Чувства переполняли ее. Сколько тошнотворной радости было в том, что у нее не было детей! Разумеется. Если бы у нее был ребенок, он бы осиротел. Так она противилась собственной смерти: умерев, она бы бросила своего ребенка. Дышала она урывками, силы ее были на исходе. Но ребенок существовал в ее мыслях: на миг ее сознание помрачилось, а затем все стало ясно – ребенком была она, что стояла и ждала чего-то. Боже, какая любовь к этому ребенку вдруг родилась в ней: хлынули слезы. Такая беззащитная. Дети такие беззащитные. Смотри, вот люди, объятые страхом, бредут сквозь дым и пепел. Дети. Что мы с ними делаем? Гул быстро нарастал, раздался немыслимый грохот, всего на миг ее оглушил звук, подобного которому она еще никогда не слышала, столь чудовищный, что реальность вокруг преображалась, столь громкий, что захватывал все вокруг, столь всеобъемлющий, что она ощутила, как бежит от него, ускользает из собственного тела, чтобы убежать: воздух был гарью, был пылью, был чадом, и грохот был силой, что подбросила ее вверх, и она повисла в воздухе: о боже, ну вот и все. Она раскрыла рот, ее швырнуло вперед, и все, что было в ней, устремилось наружу, все здание рушилось