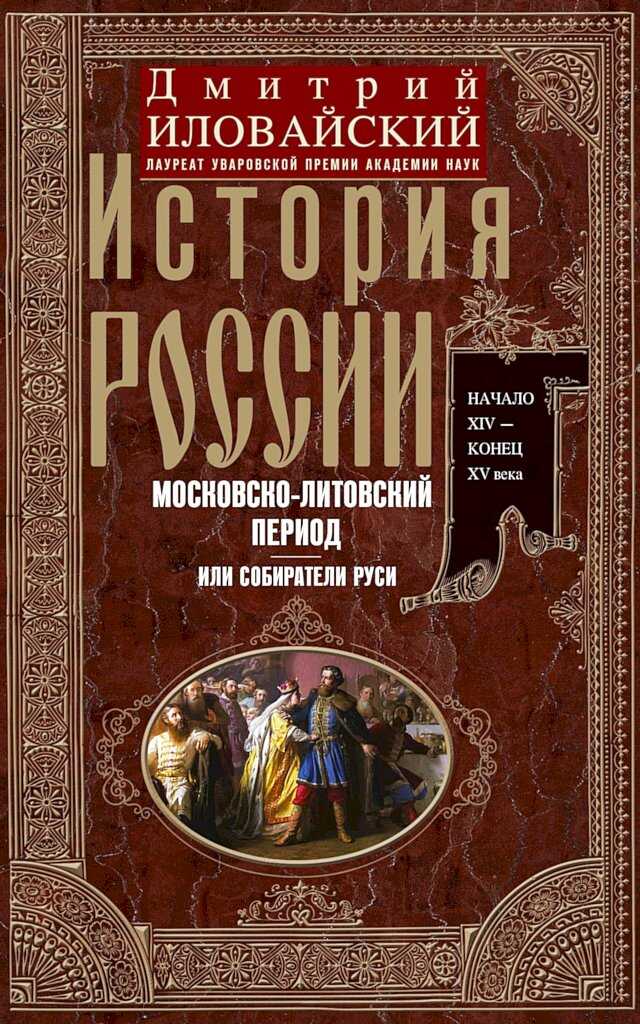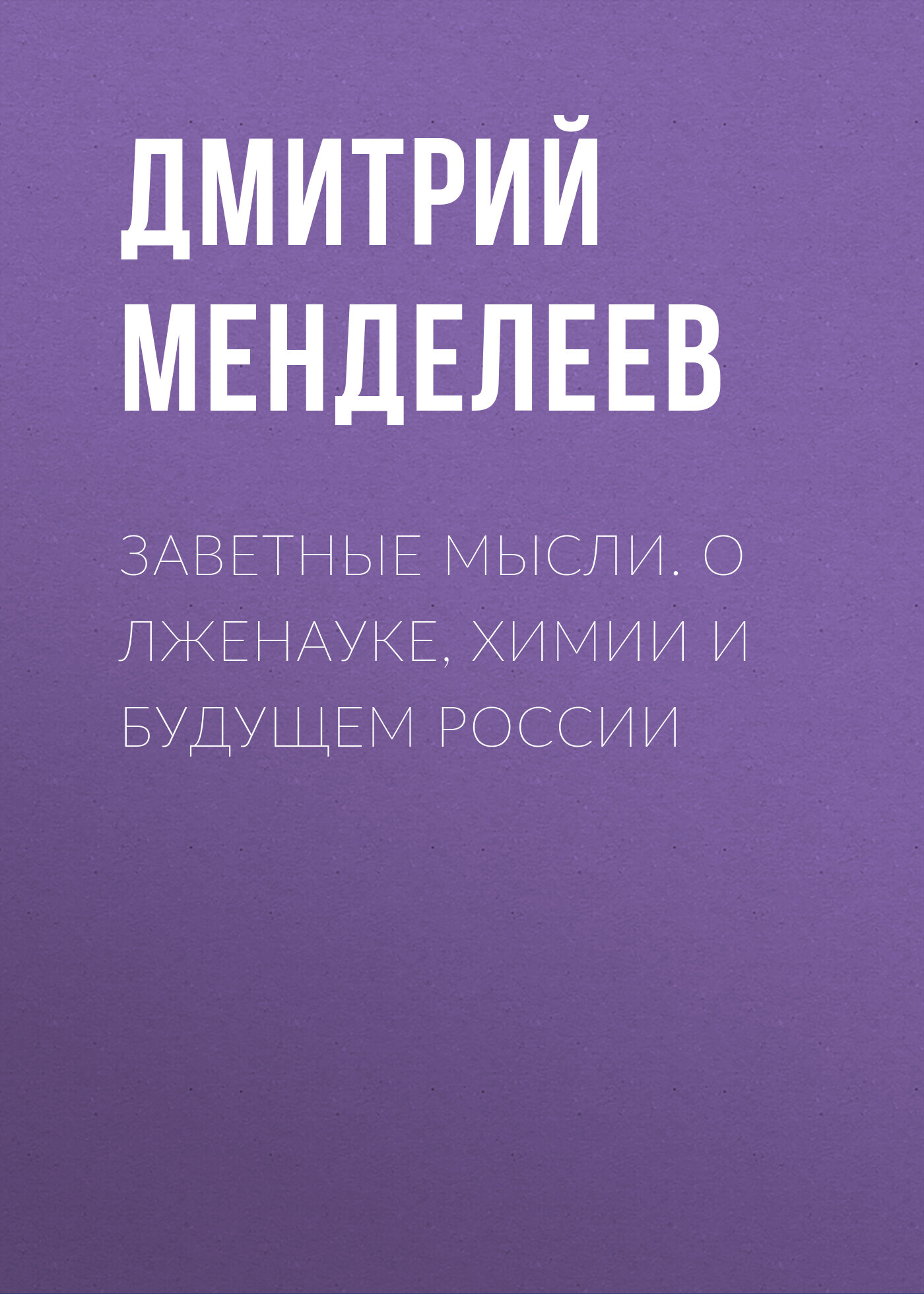из суда правыми; ибо судьи не смели их обвинять. Понятно, что, почувствовав свою безнаказанность, они скоро сделались бичом для мирных граждан, обижали их, грабили и нарочно заводили с ними тяжбы, чтобы взыскивать с них денежные пени. Но чем более становились они ненавистны народу и чем более от него отделялись, тем более Иоанн рассчитывал на их преданность к себе и верность. Самая Москва казалась ему не безопасным местопребыванием, и он стал большей частью проживать со своими опричниками в любимой им Александровской слободе, расположенной посреди глухих клязьминских лесов, которую он обратит в хорошо обстроенный город, огороженный каменной зубчатой стеной с башнями. Кругом стояли крепкие заставы с военной стражей, которая никого не пропускала без царского разрешения; почему жители стали вместо слободы называть ее Неволей. Соединяя в себе кровожадность вместе с лицемерной набожностью — как это обыкновенно бывает у робких тиранов, — Иоанн не только прилежал к церковной службе, но и простер свою набожность до того, что, если верить современникам, по наружности обратил свой дворец в монастырь, выбрал из опричников 300 человек братии, себя назвал игуменом, князя Вяземского келарем, Малюту Скуратова паракли-сиархом или пономарем и вместе с ним ходил на рассвете звонить к заутрене. Во время церковной службы он принимал участие в пении и чтении, а молился в землю так усердно, что на лбу у него оставались знаки поклонов. Во время братской трапезы сам совершал вслух душеспасительное чтение. Но все эти наружно-благочестивые занятия не мешали, конечно, самозваной братии ежедневно вдоволь и вкусно есть и пить, носить шитые золотом и опушенные соболем кафтаны под черными рясами и предаваться разным бесчинствам. Сам Иоанн, посреди однообразия сей мнимомонастырской жизни, развлекал себя пытками и казнями многочисленных жертв своей свирепости. А на ночь заставлял усыплять себя сказками, для чего держал особых слепцов-сказочников. Он не покидал также своей привычки к частым разъездам по областям для надзора за крепостями или на богомолье и на охоту (особенно любил медвежью травлю), а иногда являлся и в столицу, где казни принимали тогда ужасающий характер. Хотя он и поручил управление государством земским боярам, но в действительности они ничего не делали без его воли[45].
Так называемая некоторыми писателями борьба Иоанна с боярским сословием, в сущности, никакой действительной борьбы не представляет; ибо мы не видим никакого серьезного противодействия неограниченному произволу тирана со стороны сего сословия. Очевидно, самодержавная власть в Московском государстве была уже настолько сильна и так глубоко вкоренилась в нравы и воззрения народа, что наиболее строптивым боярам не на кого было опереться, если бы они вздумали оказать какое-либо неповиновение. Им оставалось только орудие слабых и угнетенных — тайная крамола, и жестокие казни Ивана IV являлись бы до некоторой степени понятными, если бы доказано было существование какой-либо опасной для московского самодержавия боярской крамолы. Но таковой при Иване IV мы не видим. Нельзя же назвать опасной в этом смысле крамолой попытки некоторых бояр бегством в Литву спасти свою жизнь от кровожадного тирана или мстить ему за причиненные обиды и насилия. Хотя в последнем случае такие попытки, несомненно, имеют характер государственной измены; но подобные явления встречались во все времена и во всех государствах и не могут быть названы борьбой какого-либо сословия против государственного строя. В Москве было только одно сословие, которое могло оказать некоторое противодействие кровожадному самодурству Ивана IV, хотя бы только одним своим нравственным авторитетом. Мы говорим о высшем духовенстве. И как ни было оно, в свою очередь, зависимо от царской власти и угнетено тираном, оно все-таки выставило из среды себя достойного борца. Но любопытно, что этот человек вышел не из другого какого сословия, а именно из боярского. Следовательно, только чрез духовный авторитет сие сословие могло тогда проявить какой-либо открытый протест против тирана.
Митрополит Афанасий занимал первосвятительскую кафедру с небольшим два года. Устрашенный, вероятно, ужасами опричнины и не имея силы характера противостоять им, он отказался от своего сана и удалился в Чудов монастырь. Выбор Иоанна остановился было на Германе, архиепископе Казанском; но, когда сей последний, еще до своего поставления, вздумал поучать царя и напоминать ему о Страшном суде, любимцы стали внушать Иоанну, что в сем митрополите он найдет второго Сильвестра, и убедили его отстранить Германа от митрополичьей кафедры. Посему несколько удивительным является то, что Иоанн пожелал возвести на эту кафедру такого мужа, как соловецкий игумен Филипп.
В миру Феодор, Филипп принадлежал к боярскому роду Колычевых, одному из родов, происшедших от известного Андрея Кобылы наравне с Захарьиными-Юрьевыми, Шереметевыми и другими. Переход его от мирской суеты к иноческим подвигам в общих чертах напоминает историю подобных подвижников прежнего времени. В молодости своей Федор Колычев некоторое время находился при великокняжем дворе, и здесь узнал его Иоанн, тогда еще малолетний. Это было в последний год правления Елены, когда вследствие придворных крамол и переворотов семья Колычевых подверглась гонению. Житие Филиппа рассказывает, что, однажды услыхав на литургии слова Спасителя «никто не может двема господинома работати», молодой боярин решился навсегда покинуть мир и тайком ушел из столицы. После разных странствий он явился в Соловецкую обитель и, никем не знаемый, принял на себя суровое послушание: рубил дрова, копал в огороде землю, работал на мельнице и на рыбной ловле. Постриженный в иноки, с именем Филипп, и усердствуя к церковной службе, он продолжал также деятельно работать то в монастырской кузнице, то в хлебне и тому подобное. Еще при жизни престарелого игумена Алексея Филипп был уже избран его преемником. После его смерти, вступив в управление монастырем, Филипп вполне проявил свои замечательные хозяйственные способности. Он умножил и улучшил соляные варницы, служившие главным источником монастырских доходов; устроил мельницу, проведением каналов соединил многие озера и осушил болотистые места для сенокосов; на одном из островов построил скотный двор, развел рогатый скот и оленей, из шкуры которых стали выделывать меха и кожи. Не однажды Филипп по делам своего монастыря посетил Москву и Новгород, к епархии которого принадлежала Соловецкая обитель, и выхлопотал для нее разные жалованные грамоты. Вообще, бедная дотоле, обитель сия при нем пришла в довольно цветущее состояние: он не давал времени для праздности и лени, а заставлял всех трудиться. Монастырь украсился новыми и притом каменными храмами. Слава его благочестия и строительных подвигов распространилась до царского двора. В 1566 году Иоанн вызвал его в Москву и объявил ему свое желание видеть его на кафедре митрополичьей. Филипп колебался принять сей высокий сан