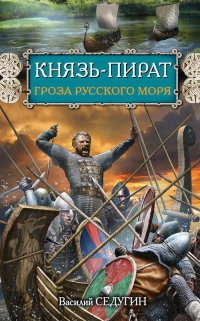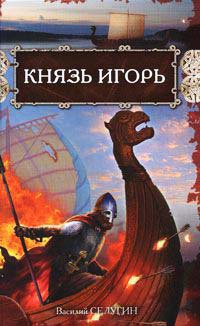Мещеряк выходил перед ними без оружия. Доставал пергаментный свиток, на котором было невесть что написано, — свиток остался от попика, он его позабыл, когда возвращался к Ермаку в лагерь. Среди казаков прочитать его никто не мог — все были неграмотны. Но, подражая государеву дьяку, Мещеряк «читал» нараспев, а какой-нибудь шустрый толмач из остяков переводил:
— «Милостью Божьей Мы, Государь Московский и Всея Руси...» — Мещеряк нес такое, что на Москве его давно бы повесили за непочтение, казаки на санях еле сдерживались, чтобы не заржать от смеха, но вот есаул переходил к деловой части: — «Отныне и навеки запрещается: кабалить одному человеку другого, отдавать человеку человека в заклад, продавать, неволить и угонять». — Как правило, как только толмач переводил эти слова, лесные люди падали на колени и дальше слушали указ, стоя на коленях, иногда одобрительно вздыхая. — «Никто же, — вычитывал атаман, — не может насильно заставлять другого человека своему Богу веровати и в свою веру насильно обращати».
Стоном одобрения и боем в бубны отвечали на это остяки.
— «А ясак я вам, Государь Московский и Всея Руси, полагаю вдвое меньше, как вы платили поганому басурманину Кучуму. А кто же сберет ясака больше положенного, то сие обменивать на деньги или иные припасы по торгу полюбовно...»
Что начинало твориться после того, как есаул сворачивал свиток, целовал его сам и давал поцеловать всем с благоговением подходящим к нему лесным людям, трудно описать.
Казаков обнимали, тащили в чумы или к кострам, кормили-поили. А уж мягкой рухляди натаскивали столько, что казаки не знали, как повезут ее в лагерь.
Счет вели честно, беря ровно половину того, что давали прежде Кучуму, а за остальное расплачиваясь наконечниками для стрел, бисером и иными немудрыми припасами, коими снабдили их Ермак и молчаливый рыжий немец. Лесные люди принимали как величайшую драгоценность железные топоры, ножи, рыболовные крючки...
Эта полученная ими, может быть впервые от ясашного есаула, вещь была не просто полезна в хозяйстве — это был знак новой жизни, свободы, которую принесли бородатые люди с громоносными палками. Об этом слагали песни и разносили их из стойбища в стойбище.
И когда деловитый Бояр или какой другой князь из его сторонников или сродников затевал присягу, лесные люди клялись в верности неведомому, но доброму русскому Царю искренне, со всем сердечным жаром.
Шаманы выносили самые заветные святыни, которые сторонним людям никогда не показывали. Гудели бубны, пестро одетые диковинные шаманы выкрикивали молитвы и подавали в знак клятвы пить воду с золотого блюда.
— Гля, станичники, — золото! — сказал Якбулат из Ермаковых родаков.
— И верно, — без всякого интереса согласились казаки.
— Стало быть, есть оно в здешних местах...
— Ох, и хватят они горя с этим золотом! — дальновидно предсказал Пан. — Как попрут сюды купцы да добытчики, вот и плакали тутошние становища. Все под корень изведут! Все речки перекопают! А энти — как малые дети!
Но это было далеко не так. Сквозь прорези в шаманских масках, сквозь завесь мелких косичек шаманы зорко примечали все в новых, незнаемых людях. И прекрасно понимали, что перед ними — не князья, не ханы, потому не очень в их указы верили.
Примечали и другое, что люди эти дружественные, лесным людям беды не делают, а к золоту совершенно равнодушны. И это им нравилось больше всего.
Они помнили, как при одном упоминании о золоте ханские воины перетряхивали весь скарб в чумах, обыскивали и старых и малых. А эти смотрели на золото безразлично. Не отнимали, не требовали показать, где его родят горы. Может быть, поэтому казаки остались живы, когда случайно наткнулись на огромное капище, где шло весеннее моление и несколько десятков шаманов призывали весну и тепло.
Казаки вышли на это место неожиданно, отчасти заплутавши в лесистых и болотистых местах вокруг реки Демьянки. Шли как обычно — с опаской. Впереди — трое конных, далее, на значительном расстоянии, — обоз, а уж потом — опять стража.
Первые замахали обозу остановиться. Казаки торопливо похватали пищали и сабли.
— Что там?
— Шайтанщики молятся! — доложил одноглазый казак Репа.
Из чащи доносились крики и гудение бубнов. Казаки бесшумно подобрались поближе. На широкой поляне стояли десятки идолов, увешанных тряпками, вымазанных кровью. В самом центре, окруженная огненным кольцом, стояла чара не чара, бадья не бадья, обхвата в четыре; в ней была налита вода, а посреди этой чаши стояла фигура. Сквозь пляшущие языки пламени можно было разобрать только, что это — изображение женщины, и по блеску догадаться, что вылита она из чистого золота.
Вокруг чаши танцевали и бились в молитвенных припадках шаманы. Они вскакивали, колотили в бубны, падали, катались по земле, хватали руками угли и кололи себя ножами, не чувствуя боли.
— Во чего творят! — прошептал Репа Мещеряку. — Страх!
— Пойдем-ка, робяты, отсюдова! — сказал Пан. — Ну, молятся и молятся!
— Удивительно, однако! Это вот они так-то бога свово почитают?
— Ну!
— Смешно!
— А им небось смешно, как ты молисси! — сказал ермаковец Якбулат.
— Каждый своему богу на свой манер служит, — согласился Репа.
— Пойдемте отсель! — увел казаков Пан.
— А статуя навроде болван золотой! — сказал Репа.
— Наверно. Айда отсель!
— Чижолая, должно! — заметил Якбулат, глядя, как, облепив будто муравьи, шаманы волокут на носилках золотого истукана.
— Во, купцы прознают про золотую бабу — сбесятся! — засмеялся Репа. — Они до этого золота как умалишенные. А по мне хоть бы оно есть, хоть бы его и не было!
— От него все зло, — сказал пожилой казак Скуня. — Золото — от сатаны!
Никто не спорил, и постарались из краев золотоносных убраться поскорее.
— Нам не золото, нам припас съестной нужон! — толковали казаки. — А тута его хошь за какое золото не купишь.
Они еще долго переговаривались, лежа на санях.
— А об чем они молились, как думашь?
— О чем молятся: о здоровье, об удаче, на хорошую погоду...
Заночевали в малом стойбище, но в чумы не пошли. Походили уж! Там в шерстяной и меховой темноте чадил костерок, и под ногами, словно мягкий пух, была растоптанная с золою земля. Казакам такая ночевка была непривычна. В кибитке еще куда ни шло, а в чуме — тесно. Спали в санях, на воле. Тем более что совсем уж тепло было. Под утро хлынул дождь.
— Вона об чем моления-то была! — кричал, укрывая тюки с зерном, Якбулат. — Об теплой погоде моления была!
— Да! Сели мы, братцы! — причитал Пан.
— Чего делать-то станем?
Прикинули так и эдак... На санях назад не вернуться — реки не сегодня-завтра вскроются.