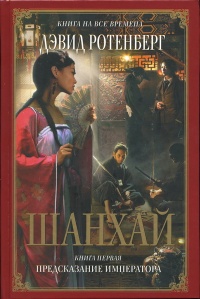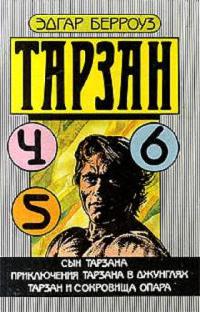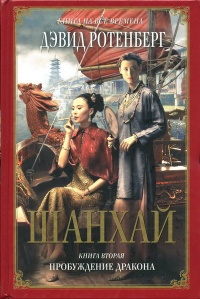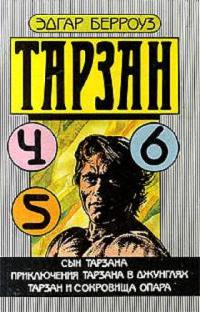прибыло, но и сегодня таких странствующих ветеринаров диких животных едва ли наберется несколько десятков по всему свету. Так что я двадцать четыре часа в сутки нахожусь на боевом дежурстве. Если я прав, заявляя, что дикие животные нуждаются в услугах специалистов другого уровня, чем тот, что доступен для домашних любимцев и сельскохозяйственных животных, то у меня совесть не позволяет отклонить просьбу: обращайтесь, мол, к местному лекарю собак и кошек или лошадей. К тому же я не мог бы спокойно сидеть в Ричмонде, зная, что где-то беда постигла дикобраза или пуму. Или вот гориллу в маленьком третьеразрядном итальянском цирке на берегу Эгейского моря…
Итак, я вылетел в Афины. Владелец цирка, синьор Пальмони, — тот самый, который сейчас учит меня тонкостям приготовления макаронных блюд за первоклассным обедом у себя в фургоне, встретил меня в аэропорту с плакатом «ДОКТОР ТЭЙЛОР ДЛЯ ГОРИЛЛЫ» и отвез меня в Халкис на драном пикапе. Халкис, главный город самого крупного острова в Эгейском море, — забытое Богом, серое и мрачное место; сгущавшиеся тучи и порывы холодного ветра усиливали мрачное впечатление, когда мы прибыли в цирк, приютившийся как раз посреди городской свалки. Мне никогда не приходилось иметь дело с итальянцами в роли владельцев цирка, но они оказались милым радушным семейством и настояли, чтобы, прежде чем приступать к делу, я выпил чашечку кофе с амареттини. Горя радушием, они расточали благодарности за мой визит, хотя я еще даже не взглянул на пациента. Но в их милых глазах мигом вспыхнула настороженность, стоило мне задать вопрос:
— Где вы приобрели гориллу, синьор?
Итальянец дотоле вполне сносно говорил по-английски; теперь этот язык словно вылетел у него из головы. Он повернулся к сыну и что-то выпалил ему по-итальянски.
— Dottore, — сказал юноша, — что это значит — «приобрели»?
— Ну, где вы ее достали? Как она попала к вам?
Отец и сын, теперь уже с торжественными лицами, перекинулись парой фраз непонятно о чем на итальянском. Теперь, когда отец в одно мгновение начисто забыл английский, сын изобразил шикарную улыбку полумесяцем и сказал:
— Папа говорит, что Луиджи из зоопарка.
— Правда? Из какого зоопарка? Он там родился?
— Да, он из зоопарка.
— Из итальянского зоопарка?
— Хм… Директор зоопарка знает, как хорошо мы смотрим за животными. Пять… этих, как это называется… поколений нашей семьи работают в цирке. Каждый знает, как хорошо мы смотрим за животными. Можно сказать, животные у нас в крови. Capisce? Понимаете?
Папаша бодро кивнул и что-то пробормотал, прижав руку к сердцу, как президент США при подъеме национального флага. Как я понял, они не собирались назвать мне зоопарк. Было ясно как Божий день, что «зоопарк» — чистейшая фикция. «Ладно, давайте еще немного поиграем в эту игру, — подумал я. — Ну хорошо, допустим, его не привезли контрабандой детенышем после того, как его родители погибли от рук браконьеров».
— Сколько ему теперь лет? — спросил я.
— Шесть лет, доктор, — ответил папаша, к которому внезапно вернулось владение английским. — Нет на свете гориллы счастливее и здоровее, чем эта. Она для нас как член семьи! Член семьи Пальмони! — Теперь уже оба моих собеседника сияли улыбками в виде полумесяца.
— А сколько ему было, когда вы приобрели его?
— Шесть месяцев, — сказал папаша.
— Два года, — одновременно с ним выпалил сын.
От такого конфуза их улыбки мигом потускнели, и они раздраженно обменялись любезностями на итальянском.
— А почему зоопарк не пожелал оставить его у себя? — продолжил я.
Похоже, запас познаний папаши в английском языке иссяк окончательно.
— No capisco, dottore[37], — сказал он, качая головой.
— Мой отец говорит: как жаль, что вы не владеете итальянским, доктор. А то бы он рассказал вам, как хорошо он ухаживает за животными. Как до него это делали отец, дед и прадед.
Папаша встал.
— Andiamo[38], — сказал отец, забирая у меня недопитую чашку кофе.
— Пошли к Луиджи, — сказал сын. — Мы рады, что вы приехали посмотреть его, dottore.
Мы отправились к цирковому фургону, окрашенному в серый цвет. Поднявшись по деревянным ступенькам, Пальмони-младший вставил ключ в стальную дверь, и оттуда немедленно вырвалась какофония звуков, как из преисподней. Я мигом оглох от лязга металла, сотрясавших фургон ударов и хора пронзительных криков. Создавалось впечатление, будто за дверью находится кузница Вулкана, куда забрели сто чертей и одна ведьма. Пальмони-младший поколебался, прежде чем решился отворить дверь, и обратился ко мне, скорчив гримасу.
— Когда мы войдем туда, доктор, — крикнул он, пытаясь пересилить весь этот шум и гам, — прижимайтесь к стенке фургона, чтобы они вас не достали. У них длинные руки.
Дверь распахнулась, и юноша вошел. За ним шагнул я, цепочку замкнул отец. Шум стоял невообразимый. Уши у меня дико разнылись, и, как только дверь захлопнулась, я тут же прижался к ней. У меня засосало под ложечкой, когда к моему животу потянулись грубые черные пальцы, не доставая всего каких-то миллиметров. Мы двинулись по узкому коридору мимо двух рядов маленьких железных клеток, одного над другим. Прутья клеток были толще и шире, чем промежутки между ними, и сквозь эти промежутки тянулся лес черных волосатых рук, хватавших воздух. В каждой клетке сидело по шимпанзе. В противоположном конце коридора, за дверью из могучих прутьев, находилась крохотулешная комнатка, примерно в шесть квадратных футов. В ней сидел, колотя кулаками пол, самец гориллы шести-семи лет. Он поглядел на меня темными блестящими глазами, продолжая колошматить по полу. В отличие от шимпанзе, он не подавал звуков голосом.
— Прижимайтесь к стене, доктор, — крикнул Пальмони-младший, между тем как его отец достал невесть откуда железный колышек для постановки палатки, постучал по прутьям клетки, после чего какофония стихла. — Прижимайтесь к стене и втяните живот.
Я подошел поближе и, когда дверь открылась, проскользнул в крохотную комнату.
Луиджи, крепко сбитый молодой самец, ухмыльнулся при нашем появлении, обнажив два ряда желтых зубов. В его апартаментах было тесновато для всех четверых, так что папаша Пальмони остался в коридоре. Стук колышка был привычным для обезьян сигналом к тишине, и теперь Пальмони-старший, стоя перед рядами клеток, угрожающе размахивал сим предметом, будто жезлом. Луиджи обнюхал мне брюки и пощупал указательным пальцем у меня в паху. Весь пол был покрыт кисло смердящим слоем кишечного расстройства.
— Мы перепробовали все мыслимые лекарства, доктор, — сказал мой спутник, когда я опустил глаза на сидевшего на корточках Луиджи; он одарил меня ответным взглядом. — Но греческие ветеринары ничего не понимают в таких обезьянах, как Луиджи. Мы вводили ему пенициллин, стрептомицин, хлорамфеникол… (Он перечислил еще