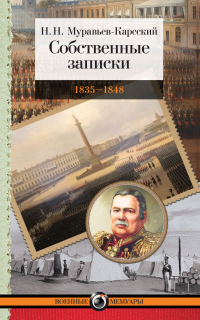Потом я был у великого князя. Кто едет к нему являться, может быть уверен, что на сие посвятит все утро, ибо он заставляет долго дожидаться. Сие и со мной случилось; когда же он вышел, то не сказал мне ничего особенного, кроме похвалы о Москве.
От него я пошел к великой княгине, где дожидался также целый час, но и разговор мой с ней продолжался довольно долго: она так приятна, что с удовольствием проводишь с ней время. Она говорила со мной о путешествии моем в Хиву, о пребывании в Грузии, шутила над строгим взглядом моим, с коим я оставался на балах, находила, что занятия и род жизни здесь не могли нравиться порядочному человеку, привыкшему к деятельности и путным занятиям, и не советовала мне делать какие-либо усилия над собою, дабы привыкнуть к сему роду жизни, ибо от оного теряются все способности ума и души. «Кто хочет не наблюдать, должен ехать прочь отсюда». Она не могла нахвалиться своим пребыванием в Москве. Искренний разговор ее склонил и меня к таковому же. Я сказал ей чувства сии относительно к здешнему роду жизни и намерения мои навестить брата своего в Вятке.
– Это занимательное путешествие, – отвечала она, – кому не лестно увидеть богатые губернии восточной России? И я бы с удовольствием побывала в них.
– Вы бы должны предпринять сие путешествие, – сказал я.
– Как же можно одной! Разве мне сделаться Дон-Кихотом? Да притом же и императрица еще не ездила туда.
– Вы ездите, однако же, на воды за границу; почему бы вам не съездить на Кавказ, сделав небольшой круг?
Она воспользовалась сим случаем, дабы обратить разговор на Кавказ и Грузию, слушала со вниманием, что я ей говорил о намерениях правительства перевести торговлю Индии через Хиву и Астрахань в Россию, выхваляла достоинства А. П. Ермолова. Как ее разговор различествовал от того, коим она занимается в присутствии других, говоря только о войсках и солдатах!
Я вышел от великой княгини в восхищении от ее образа мыслей и разговора; подобного я не слыхал здесь ни от кого. Но она не умела утаить и соперничества своего с императрицей. Между разговорами своими она сказала, что не постигала, каким образом здесь должностные люди умели при рассеянностях еще заниматься делом. Я отвечал, что сам не постигал сего и не признавал в себе способностей, дабы нести сии две обязанности вполне с успокоением совести на счет исполнения их по надлежащему.
Образ мыслей моих не скрыт более ни от кого: все знают, что я избегаю двора, столицы и рассеянностей, и я гласно говорил везде, что преданность государю не знаменуется неутомимой алчностью быть при лице его, ибо служба ему предстояла и в отдаленных местах империи.
18-го я кончил последние визиты свои; был и у военного министра, который принял меня хорошо, но в глазах своих не умел скрыть оскорбления своего. Был у Бенкендорфа, Эссена и, наконец, у графа Орлова, который уверял меня опять в дружбе своей и готовности служить мне. Он рассказал мне опять снова все, что знал о происшествии моем с министром, говоря, что министр ему упрекает в том, что меня хотели назначить генерал-квартирмейстером, но Орлов оправдывался от сего. Министр, по словам его, хвалился перед вечерним разговором нашим, что он меня склонит или заставит принять сие место, но что будто Орлов предостерег его, что ему не удастся, и что министр теперь se sent humilié[214] и оттого дуется на меня. Орлов уверяет, что он подстрекал меня к сему отказу, потому что знал, сколько место сие негодно и не по мне. Я отвечал, что звание генерал-квартирмейстера я могу только сравнить с состоянием грузинских царевичей, показывающихся во дворце на выходах. Он смеялся сему, но нашел сравнение сие справедливым и сказал, что место сие исполнено интриг и неудовольствий и само по себе ничего не значит.
– Нейдгард, – сказал он, – извлек уже все, что из оного можно было, и теперь очень рад удалиться. – Мне бы предстояло два рода службы, – отвечал я: – придворная и обязанность. Если б я последовал за первой, то где бы осталась совесть моя, когда бы должность моя осталась заброшенной? Если бы же я занялся одной обязанностью своей, то я бы был самый чернорабочий и не в силах был бы при всем том исполнить ее вопреки принятому здесь ходу занятий. За обеими же я не чувствую в себе сил угнаться.
Орлов нашел весьма справедливыми мои суждения и обещался сам по себе заботиться о делах моих в мое отсутствие. Он советовал мне, однако же, непременно приехать сюда к маневрам, полагая, что, может быть, он будет командовать одним войском, а я другим. Я говорил ему, что дело сие для меня весьма новое и что тут множество соображений входит, мне совершенно чуждых; но он настаивал и говорил, что это все очень легко. Он не советовал мне уезжать, как я желал прежде того, в Вятку к брату Александру, и думал, что по окончании маневров государь меня охотно отпустит туда и даже вспомнит о брате и не замедлит перевести его поближе в России.
Граф Орлов не сделает зла там, где ему не поперечишь, и он в сих отношениях ведь себя очень хорошо со мною.
Завтра, 20-го февраля, я оставляю Петербург и еду в Москву. Оставляю с удовольствием пребывание сие, в коем я много претерпел мук и досады; оставляю его с желанием более не возвращаться сюда.
Москва, марта 8-го
20-го февраля я выехал из Петербурга, и в Померанье на станции нагнал меня великий князь Михайло Павлович, который ехал на смотр в поселения. Он пригласил меня чай пить и задержал часа два. Я нашел его чрезвычайно приветливым, разговор его основательным и совершенно различным от того, как я его в Петербурге видел. Он отзывался с большой похвалой о Москве и жителях оной, говоря, что ему всегда казалось, что он въезжает в Россию только тогда, когда переезжал реку Шошу, составляющую границу Московской губернии.
– Я там приятно проводил время свое. Скажи всем, сколько я люблю город сей, и признателен жителям за приветливость их.
Я сообщил ему желание мое съездить в Вятку к брату Александру, и сие подало повод к разговору о брате Михайле и управлении его Гродненской губернией. Он оправдывал его обхождение с поляками и обвинял тех, которые осуждали строгость его.
– Неосновательные суждения о сем, – продолжал Михайло Павлович, – происходят от людей, не постигающих дела и важности ответственности; а с поляками, не имеющими ни правил, ни постоянства, нельзя обходиться слабо: поведение такое с ними может иметь самые пагубные последствия.
Разговор сей обратился к приступу Варшавы, о коем он очень охотно говорит со мною: ибо я при сем случае всегда напоминаю ему о помощи, им мне данной в сей день, и я снова напомнил ему различные обстоятельства того дня, которые он слушал с удовольствием.
Стали говорить о воинском управлении. Я объяснил мысли свои насчет парадов, которые бы нужно было изменить, и начальников штаба, коих пользы я не признавал, разве с изменениями их власти и сношений; но великий князь обратил речь на управление 1-й армии.
– Это правда, – говорил он, – что фельдмаршал Сакен весьма умный человек; но он уже из лет выжил, и я не вижу надобности иметь в мирное время управление армии. Достаточно и гораздо лучше иметь только корпуса: вся служба тогда исполнялась бы легче и с меньшей сложностью, – и как речь зашла о начальниках штабов, то он сказал, что Красовский не на своем месте.