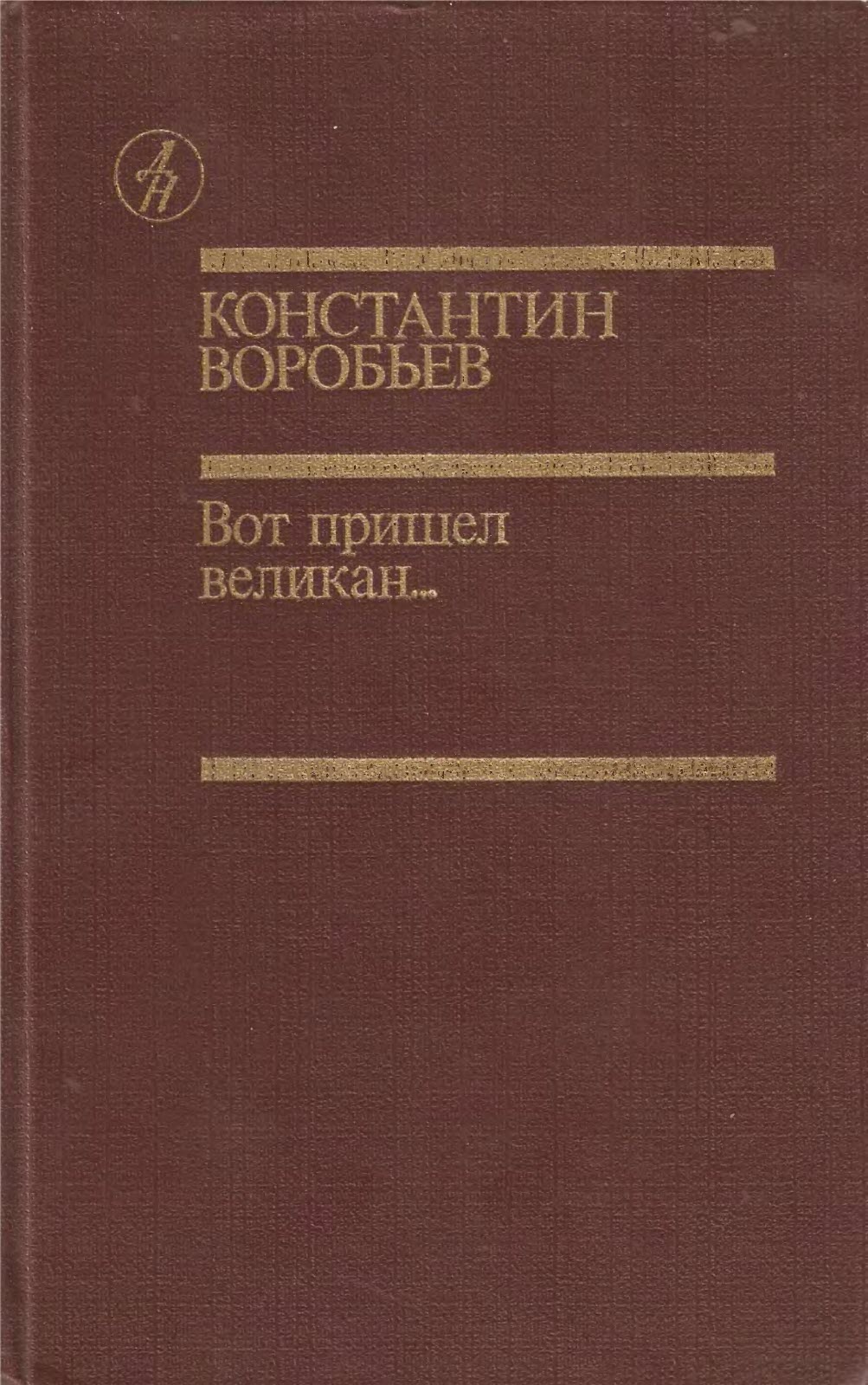из-под одеяла выпросталась рука, бледная и костистая, потом другая. И вот отодвинуто в сторону одеяло, и невесомое, как мумия, тело с тяжким усилием преодолело невероятное притяжение кровати и хрупким привидением в белом сползло ногами на пол и неуверенно выпрямилось. Громова шатало будто сильным ветром. Шершенев, забоявшись, что он вот-вот грохнется на пол, подбежал к нему и подхватил под мышки.
Рубаха на спине Громова в один миг промокла от пота — так велико было усилие воли больного, чтобы победить ослабевшее тело. Шершенев уложил вконец обессилевшего человека, дал ему напиться. Сухие губы его прыгали по стенкам стакана, а рука никак не могла справиться с непосильной тяжестью.
На следующее утро Громов встретил Анну Афанасьевну уже сидя на кровати. Он впервые надел пижаму, побрился, причесал жиденькие волосы. Откинув свое невесомое тело на упертые в матрас руки, он как бы делал вызов всему свету. Но Шершенев видел, как блестел, покрываясь потом, его бледный лоб и как дрожали под невыносимой тяжестью руки. Анна Афанасьевна попросила его прилечь, подержала его руку, считая пульс, сказала:
— Ну, мы совсем молодцы. Я же говорила: будем ходить, выпишемся, начнем поправляться. Все будет, все будет…
Но странно, что Громов как будто не слушал ее, а вдруг заблестевшими глазами, еще недавно тусклыми и неясными, стал ловить взгляд врача, но Анна Афанасьевна в это время, как назло, смотрела на кого-нибудь из больных, и в глазах ее трудно было что-либо прочитать. Шершенев не видел в них того света, особенного и неповторимого, какой не раз испытал на себе. Он помнил, она говорила ему о не побежденной еще болезни, что еще все может случиться и надо быть бдительным, но свет в ее глазах был для него убедительнее всяких ее слов. Он, этот свет, говорил о победе над смертью, о торжестве ума и рук человека. Или это только казалось ему? Может быть, он просто очень хотел, чтобы так было? Да, наверно, это так и есть. Иначе зачем ей все время держать его в напряжении, она бы, утешая его, сказала, как говорила Громову: «Ну, мы совсем молодцы». Но она ему не говорила этого. А раз не говорила, значит, было правдой то, что заключалось в ее словах, а не в свете глаз.
…Громов уже ходил вполне уверенно, заправски ел и на глазах у всех оживал. Через день-два к нему приходила жена, тихая седая женщина с тоскливыми глазами. Она отчужденно сидела у его кровати — почему-то она все время его заставала в ней — и почти ни о чем не опрашивала его и ничего не рассказывала. Он как бы не существовал для нее. Шершенев дивился этому ее отношению к мужу, старался ее понять и не мог. Она будто отстранилась от него, вроде между ними легла невидимая межа. И Шершенев так бы ничего и не понял в их отношениях, если бы после очередного обхода Анны Афанасьевны и после ее очередного: «Ну, мы совсем идем на поправку», — не подошел Саша и не сказал свистящим полушепотом: «Ну что она ему морочит голову… У него же рак. Ну ушила она ему полжелудка, так ведь уже метастазы…»
— Врешь! — Шершенев схватил его за грудь. — Врешь ведь!
— Старшая сестра сказала. Пусть я тресну…
Шершенев тяжко присел на кровать, оглушенный этим страшным известием. В нем, казалось, все остановилось, все оцепенело. Сильно заболело справа внизу живота.
Свет правды, правдивости… Свет радости за победу человека над смертью… Свет великого опыта. И позорные ее слова. «Ну, мы совсем молодцы», — и всякое другое, дежурное и ложное.
Ложь, ложь…
В тот день его выписывали. Он чувствовал себя угнетенно и растерянно, и радость, какая должна была бы сопутствовать ему, бродила где-то стороной.
Уже спускаясь с четвертого этажа, он вспомнил, что забыл в тумбочке записную книжку, а в холодильнике съестное, принесенное женой, постоял, раздумывая, потом вернулся. Забрал записную книжку, а съестное роздал тем, кто оставался в палате, и вышел. Но на этот раз зашагал не к выходу, а к ординаторской.
Анна Афанасьевна встретила его словами:
— А мне передали, что вы уже ушли… Ну спасибо, не забыли.
— Анна Афанасьевна, скажите, у меня в самом деле могло все кончиться летально?
— Ишь выучились!
— Я серьезно, — сказал Шершенев.
— Что я вам скажу? Статистика показывает, что один и семь десятых процента аппендицитов кончаются, как вы сказали только что. Кто знает, который из вас попадет в этот процент…
— Спасибо, Анна Афанасьевна, я никогда этого не забуду.
— Полно, полно, Дмитрий Васильевич!
Но минутное волнение у Шершенева уже прошло, и он почти сурово спросил ее:
— Но как вы, слово которой было для меня венцом правдивости, как вы могли говорить неправду на глазах у всех?
Она резко повернулась к нему, и ее сильные, неженские плечи выпрямились.
— Вы о чем?
— Я — о Громове.
В ординаторской надолго установилась тишина. Тихий голос врача в этой тишине все равно прозвучал громко:
— Да, его дни коротки. Их не наберется и с месяц. Но скажите, что я должна делать в этих страшных случаях? Что? Говорить правду и этим лишать человека его последних радостей? Или говорить неправду и дать ему радость хотя бы на эти дни? Ну что вы молчите?
Она встала, сделала два крупных шага к окну. За окном уже бушевала молодая листва на тополях.
— Вам, вы сильный, надо было говорить правду, чтобы вы мобилизовались и победили всякую несуразность. Она, повторяю, была возможна. А ему правда не нужна, нет. Ну что вы на меня так смотрите? Идите, если выписаны, черт вас возьми, и радуйтесь, что я вас могу прогнать отсюда. Радуйтесь же!
— Радуюсь, — сказал Шершенев, — радуюсь! — И подумал о том, как это все просто у Анны Афанасьевны: тому, кто силен, — правда, а тому, кто слаб, — ложь. И разве обвинишь ее в негуманности, в недоверии к человеку? Разве повернется язык сказать о ней плохо?
«А как же в жизни, в нормальной жизни, и не с больными, а здоровыми людьми?» — подумал он и представил себе новые споры у себя в журнале. Но на этот раз он с каким-то, может быть, еще и не совсем обоснованным превосходством подумал о спорщиках, как человек, познавший что-то такое, чего еще не познали другие.
Правда верит человеку.
Руки, которые должны обнимать
1
Она проснулась в один миг. Было такое ощущение, будто ее разбудило чье-то прикосновение. Замерла, боясь пошевельнуться: