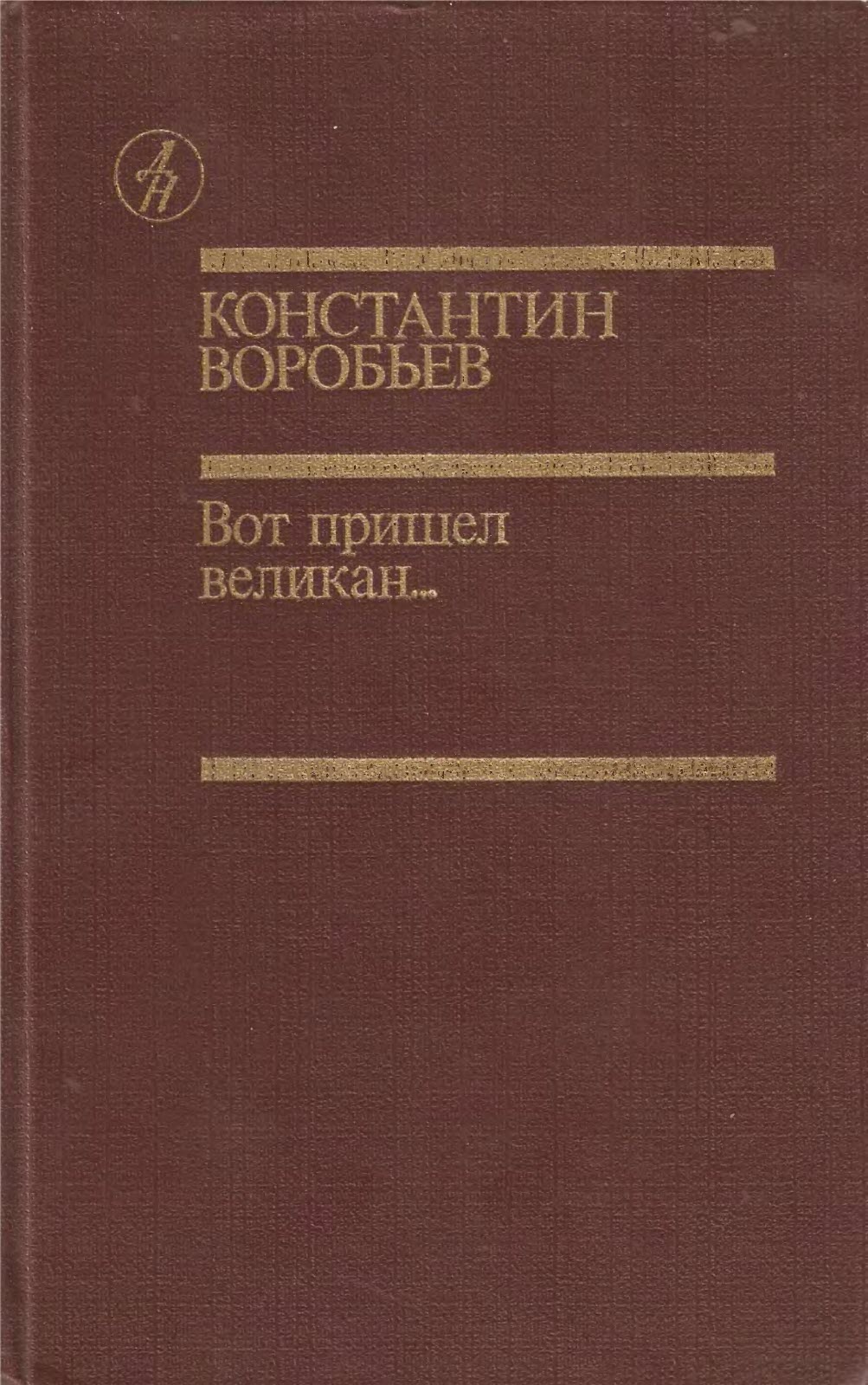наметившимся брюшком. Он бойко бегал по палате, но Шершенев не видел, чтобы он кому-то подал утку или принес напиться. У Саши уже пять дней была нормальная температура, и его вот-вот должны были выписать. Но вчера после обеда, когда в палате побывали его товарищи из конструкторского бюро, Саша вдруг почувствовал озноб, попросил градусник и установил, что затемпературил. С тех пор он уже никому не отдавал градусник. То и дело повторял модное тут слово «инфильтрат». Обо всем этом он сейчас и рассказал врачу. Анна Афанасьевна выслушала его, не проронив ни слова, и, вставая, сказала:
— Попрошу Ивана Ильича, посмотрит…
В углу у окна лежал Петр Ананьевич Сухоруков, прораб-строитель. Шершенев успел уже узнать его, грубоватого, острого на слово и прямодушного. У него удалили больную вену на правой ноге, и он ходил теперь прихрамывая. Если бы не свистящий его храп по ночам — это он храпел протяжно и жалостливо, Шершенев по-настоящему уважал бы его. Храпунов он ненавидел смертельно. Ненавидел он и Сухорукова.
— Ну а мы с вами как поживаем? — спросила Анна Афанасьевна.
— Мне уже на волю надо, — сказал Петр Ананьевич. — Здесь сердце запинаться стало. На леса, на леса хочу. Наши налаживаются Ташкент отстраивать. Контора на колеса встает, не оставаться же мне! А жилы у меня новые прорастают. Так что не беспокойтесь.
— Скажу Ивану Ильичу, он решит, — сказала Анна Афанасьевна.
Шершенев спросил у Виктора, кто такой Иван Ильич. Оказывается, это врач-хирург, который «очень любит резать». Он мог резать днем и ночью, но навещал своих подопечных редко. «Я свое дело сделал, остальное пусть сам больной доделывает», — будто бы говаривал он.
Потом Анна Афанасьевна перекинулась несколькими словами с больным, что лежал в ногах у Шершенева. Это он был автором каждонощного торжествующего храпа. Все не любили его за это, желали ему скорой выписки — пусть развлекает свою жену. В прошлом году с помощью Анны Афанасьевны храпун распрощался с селезенкой, теперь лежал повторно, для контроля. Все надеялись, что Анна Афанасьевна сегодня выпишет его, но ей что-то было еще неясно, и она запросто подарила палате еще одну бессонную ночь.
Виктору, несмотря на его жалобы на вялость и недомогание, Анна Афанасьевна пообещала скорую выписку. Шершенев представил, как он останется без Виктора, и ему стало грустно. Но грустить ему долго не дали. Петр Ананьевич только и ждал, когда закроется дверь за врачом, чтобы высказаться.
— Даю свою интервью, — сказал Петр Ананьевич… — Дети до шестнадцати лет не допускаются…
— Толкни, толкни! — почему-то тотчас озлобился против него Саша. Шершенев еще не догадывался, что «эта интервью» будет направлена против Саши, а Саша уже знал.
— Не мешай! — отмахнулся Петр Ананьевич. — Скажи лучше, почему у тебя подпрыгнул градусник? — и сдобрил свою речь соленым словом.
— Смешно спрашивать: раз подпрыгнул — значит, температура…
— Ну ясно, — поддержал его Виктор.
— А ты, Батон, помолчи! — обрезал его Петр Ананьевич. То ли за мягкий характер, то ли за застенчивую внешность он прозвал Виктора Батоном.
Виктор обиженно надулся.
— И никакая у тебя не температура, Сашя, — Петр Ананьевич произносил именно так: «Сашя». — У тебя просто под коленками расслабилось, когда вчера твои ребята сказали, что ваше СКВ налаживают в Ташкент. Вот ты и затребовал градусник… — И опять соленое слово поставило точку после слов Петра Ананьевича.
— Не говори так. Ты не имеешь права так говорить. У тебя нет оснований… — взвился Саша. — Это ты лежишь тут со своей бабской болезнью… Вены раздуваются только у рожениц.
— Интервью не обо мне, Сашя, — остановил его Петр Ананьевич, — интервью о тебе. А жилы у меня раздулись оттого… — и соленое слово поставило три точки. — Я две войны прошел, а после них сто домов построил. Сто домов как один.
— А я что, виноват, если не успел к войне вырасти? Виноват, скажи? А дома строю прежде тебя, на кальке…
— Знаю, каких скворечников вы понарисовали!.. — И соленые слова — два кряду. — Знаю. Уж кому-кому, а нам-то известно. Но не о том моя интервью. А о том, почему вы увиливаете? Почему амбразуру чужой спиной хотите заткнуть?.. — И слова, соленее и некуда, поставили знак вопроса.
— Ты не врач, ты не можешь ничего говорить. Не можешь меня обвинять.
— А я твой сосед. Я по праву соседа… — и соленое слово усилило это право.
И вот бушевала уже вся палата. И даже Виктор что-то нахрабрился сказать, и человек без селезенки прорычал из своего угла. Не спорил только Громов — его никто бы не услышал.
А дело закончилось тем, что операционная сестра скоро увела Сашу, и он вернулся минут через пятнадцать, болезненно морщась и обеими руками держась за живот.
5
Палата — свой коллектив, хотя люди тут и временные. На глазах Шершенева рождались и умирали конфликты, и почти ко всем какое-то отношение имел Петр Ананьевич.
Кандидату педнаук, пропадавшему с утра до ночи за своей пулькой, Петр Ананьевич посоветовал:
— Вы, профессор, уходя, оставляйте хотя бы одну ягодицу для уколов. Нельзя срывать лечебные мероприятия…
Человеку без селезенки заметил:
— Вас положили не для испытания наших нервов, а для испытания вашего здоровья…
— Да вы же сами по ночам свистите…
— Разница! Храпят от бескультурья, посвистывают от широкой натуры…
Виктору, которого жена навещала дважды в день, но в последний раз, когда нужно было принести одежду, она не явилась, и он горевал, что придется идти домой в пижаме, Петр Ананьевич сказал:
— Все дни она была виновата перед тобой, потому и маячила на глазах… Сегодня впервой без пятнышка. Так что ты счастливый.
Виктор покраснел в ответ и как-то странно скосил голову. Шершенев пожалел парня. Петр Ананьевич зря не любил его.
Пока Саша валялся после того, как ему расковыряли шов, Петр Ананьевич ни словом его не попрекнул. А в тот день, когда Петр Ананьевич ушел, старательно проверив, все ли он забрал с собой — тут точно помнили, что оставленная вещь приведет тебя обратно, — в этот день и встал Саша. Дверь за Сухоруковым захлопнулась, и Саша крикнул ему вслед:
— Эй, дядя, забери обрывки своих бабьих жил!
Но Петр Ананьевич его уже не слышал, а в палате никто не поддержал и не одобрил.
Для Шершенева был бы грустен и пуст день расставания с Петром Ананьевичем, если бы не случилось самое невероятное. Шершенев, сидевший с газетой в руках — опять эти проклятые баллы в Ташкенте! — вдруг увидел, как на кровати, где лежал Громов, что-то зашевелилось, от подушки отделилась угловатая от худобы голова с сухими жиденькими белыми волосами,