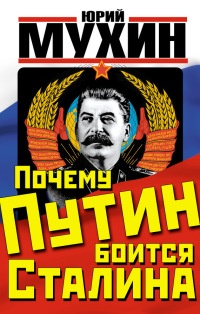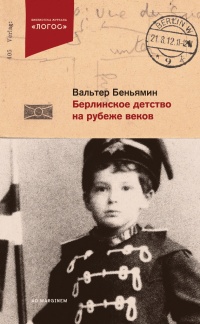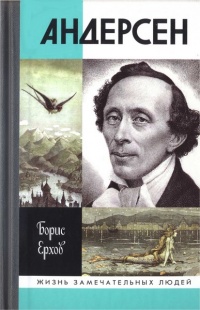Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87
В Париже в самых плачевных обстоятельствах он окружил себя осколками прежней жизни, жизни образованного, хорошо воспитанного буржуа. Рядом с разнообразной керамикой и фарфоровыми безделушками стояли старые книги в ветхих коленкоровых обложках, на стенах висели небольшие карандашные рисунки и его любимые картины. Однажды, когда он жаловался на нищету, я предложил ему продать редкий рисунок Макса Унольда[114], за который можно было выручить некоторую сумму. На это он не без горячности сказал: «Да я скорее себя убью».
Беньямин открыто и часто говорил о самоубийстве, так что я не удивился, когда узнал о том, что произошло. Я всегда предполагал, что рано или поздно он может покончить с собой. Душным летом 1932 года в Ницце он даже написал завещание, оставляя все, что имело какую-нибудь материальную ценность, своему сыну Штефану; его рукописи должны были отойти мне. Этот печальный документ был доставлен мне по почте с запиской, в которой говорилось, что, когда я его получу, Беньямина уже точно не будет в живых. Было немного неловко читать следующее его письмо, в котором о предыдущем послании ничего не упоминалось. Из чувства такта я не стал снова затрагивать эту тему. Самоубийство, как и мастурбация, – дело частное.
Из переписки Беньямина видно, как он страдал. В одном из писем того времени он говорит о «маленьких победах», одержанных им в его писательской работе, и о том, какое незначительное вознаграждение они приносят, учитывая сокрушительные поражения, которые наносила ему жизнь. Но не такими уж сокрушительными они были. Очевидно, что он не достиг всего, на что был способен. Наверное, только Гёте и Шекспир сумели осуществить все, что им было предначертано. Гений такого масштаба совершенен и редок. Беньямин был совсем не таким, и все же это, без сомнения, был великий ум. Лучше всего о нем, пожалуй, свидетельствуют его письма: каждое из них я хранил как сокровище, хоть почерк у него и был такой мелкий и изломанный, что мне часто приходилось читать их с лупой, разглядывая запачканные страницы (он постоянно проливал на них кофе и вино), как будто я пытался понять общий смысл знаков на каком-нибудь древнем свитке. Но какие это были знаки!
Странным кажется, что человек столь утонченного и своеобычного нрава мог страдать тем же честолюбием и предаваться тем же заботам, что одолевают и самых коммерческих писателей. При всем своем донкихотстве, Беньямин страстно надеялся обрести достаточно большой круг читателей, чтобы зарабатывать на жизнь пером. В двадцатом веке это больше невозможно, во всяком случае для поэтов и философов. Читательская аудитория сузилась, почти исчезла. Я, например, не ожидаю, что для моих произведений найдется много ответственных читателей – «достойных слушателей, пусть немногих»[115]. Теоретически Беньямин это понимал, но в течение двух десятилетий тщетно старался выжать из своих геракловых подвигов небольшой доход. «Мой подход к рассмотрению любых тем, – писал он мне в один из грустных моментов самоанализа, – пока еще является слишком передовым, чтобы попасть в сферу интересов массового читателя». Так оно и было.
Даже я, десятилетиями общавшийся с этим человеком, смог лишь частично понять его самые трудные и оригинальные сочинения, такие как ранняя книга о немецкой трагической драме или позднее эссе «Тезисы о философии истории» – великолепный образчик афористической прозы, пусть и несколько поражающий своей непрямотой и герметичностью. Очень личная манера построения доводов, использовавшаяся Беньямином, часто сбивала меня с толку, но каждое из написанных им слов, безусловно, заставляет думать. Страшно вспомнить, сколько раз он обращал меня в бегство – в ту или иную сторону, нередко – в густой колючий кустарник. Как часто я довольствовался ссадинами и ранами! Тем не менее благодаря его эссе и письмам я узнал Пруста, Кафку, Лескова, Бодлера, Краузе и стольких других так, как будто никогда раньше их по-настоящему не читал. И только гадкий Брехт поставил и до сих пор ставит меня в тупик. Я никогда не пойму, чем может быть привлекателен этот человек, явный жулик.
Меня приводило в недоумение, даже тревожило, что, когда дело доходило до Брехта, Беньямин вдруг становился двуликим Янусом: ему он говорил одно, а мне – другое. В 1938 году в письме ему Брехт жаловался на его приверженность «мистицизму» и «иудаизму»: «Тебе нужно забыть все эти темные обрывки знаний, это почти восточное стремление найти единое. Единого не существует. Есть только люди и их проблемы, и смысл писательского труда – так сильно раздражать людей, чтобы они решали – или захотели решать – свои проблемы». Какой вздор!
Меня же прежде всего привлекали как раз мистический и иудаистский аспекты мышления Беньямина. Что он находил ценного в Брехте – это уже другой вопрос. Я без всякого интереса прочел несколько ранних сценариев этого драматурга, но в 1932 году по настоянию Беньямина посмотрел постановку «Трехгрошовой оперы». Она два года шла с аншлагом, и я решил, что в ней должно что-то быть. Люди не будут просто так выбрасывать деньги на ветер. В результате я был потрясен до глубины души, увидев, как публика, состоявшая из представителей средних слоев общества, аплодирует пьесе, автор которой мстительно плюет на нее. Эти зрители, ненавидевшие самих себя (и по большей части евреи), были, ей-богу, еще отвратительнее, чем сам спектакль. Уже через три месяца Гитлер полностью подчинит себе Германию. Когда оглядываешься назад, такое отношение публики кажется тем более непостижимым и ужасающим. (У меня есть некоторый соблазн сказать, что таким отношением в какой-то мере объясняется то, что случилось впоследствии.)
Кроме Брехта, Беньямин и знаться не хотел со «знаменитыми» и «значительными» писателями того времени – такими, как Лион Фейхтвангер или Эмиль Людвиг[116]. Исключением был Генрих Манн: его остроумные, искусно написанные, полные насмешки романы нравились Беньямину, и он настоятельно рекомендовал их мне (меня оставлял равнодушным их беспечный цинизм, но я понимал, чтó может восхищать читателя в мастерстве, с которым они написаны). Брат Генриха Манна, Томас, никак не трогал Беньямина до тех пор, пока не появилась «Волшебная гора». От него вдруг пришло послание, полное похвал: «Несомненная особенность этого романа состоит в чем-то волнующем и всегда волновавшем меня; я нахожу в нем то, что могу оценить, подтвердить и что во многих отношениях заслуживает превосходной степени восхищения. Какими бы неуклюжими ни были такого рода выводы, мне кажется, что в авторе, когда он писал, должна была произойти внутренняя перемена. На самом деле я уверен, что так оно и было».
Мне грустно думать о том, что я потерял. Но это и было уже потеряно. Мы перестали – возможно, раньше, чем мне хочется признать, – жить одной интеллектуальной жизнью так, как она продолжалась с тех первых, давних берлинских дней. Эта беда началась в конце лета 1928 года, когда Беньямин снова был ослеплен, сведен с ума Асей Лацис, презиравшей меня и делавшей все, чтобы разлучить нас. Она мучила его, изводила, в конечном счете заставила его перестать заниматься тем, что интересовало его больше всего, и начать впустую тратить время на диалектику самого низкого пошиба. Гегель и сам по себе плох, но псевдогегельянство! Беньямин, которого я знал в 1918 году, вряд ли ужился бы с Беньямином года 1928-го.
Ознакомительная версия. Доступно 18 страниц из 87