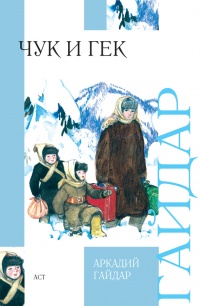— Нет, Юрка, я не увлекся, и ничего никуда не проскакивало. Я тебе семь гривен отдам. Но, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил!
— Конечно, отдай! — похвалил Юрка. — Вы ели, а я за вас страдать должен?! Да ты помнишь, как Чарли Чаплин летит в воду?
— Помню.
— А помнишь, как только он вылез, веревка дернула — и он опять в воду?
— И это помню.
— Ну, вот видишь! Сам все помнишь, а говоришь: не ел. Нехорошо, брат! Денег тебе Валентина много ли оставила? Небось, пожадничала?
— Зачем «пожадничала»! Полтораста рублей оставила, — ответил я и, тотчас же спохватившись, объяснил: — Это на целый месяц оставила. Ты думал — на неделю? А тут еще на керосин, за белье прачке.
— Ну и дурак! — добродушно сказал Юрка. — Этакие деньги да чтобы проесть начисто!
Он удивленно посмотрел на меня и рассмеялся.
— А сколько же надо? — недоверчиво, но с любопытством спросил я, потому что меня и самого уже занимала мысль: «Нельзя ли из оставленных денег сколько-нибудь выгадать?»
— А сколько?.. Подай-ка мне счеты. Я тебе сейчас, как бухгалтер… точно! Полкило хлеба на день — раз — это, значит, тридцать раз. Чай есть. Кило сахару на месяц — обопьешься. Вот крупа, картошка — пустяки дело! Ну, тут масло, мясо. Молоко на два дня кружку. Итого пятьдесят семь рублей, копейки сбросим. Ну ладно, ладно! Не хмурься. Кладу тебе конфет, печенья. Значит, шестьдесят три, керосин — два… Прачке сколько? Десять? Вот они куда идут, денежки! Итого… Итого — живи, как банкир, — семьдесят пять целковых!.. А остальные? Ты, друг, купил бы фотоаппарат у Витьки Чеснокова. Шесть на девять, а светосила!.. Под кровать залезь, и то снимать можно. Он и возьмет недорого. Хочешь, пойдем сейчас и посмотрим?
— Нет, Юрка! — испугался я. — Я лучше не сейчас, а потом… Я еще подумаю.
— Ну подумай! — согласился Юрка. — На то и голова, чтобы думать. Два-то рубля давай… Эх, брат, у тебя все пятерками, а у меня нет сдачи… Ну, потерплю, ладно! А после обеда я забегу снова. Разменяешь и отдашь.
Мне вовсе не хотелось, чтобы Юрка забегал ко мне снова, и я предложил ему спуститься вниз, до магазина вместе. Но Юрка ловко надел свою похожую на блин кепку и нетерпеливо замотал головой:
— И не проси. Некогда! Сижу долблю. Элероны, лонжероны, вибрация, деривация… Самолет — не трамвай. Чуть не дотянул — и пошел в штопор, чуть перетянул — еще что-нибудь похуже. То ли ваше дело — пехота!
Он презрительно скривил губы, небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Через минуту в окно я видел, как толстый и седой дворник наш, дядя Николай, со всех ног мчится за Юркой, безуспешно пытаясь огреть его длинной метлой по шее.
…Напившись чаю, я принялся составлять план дальнейшей своей жизни. Я решил записаться в библиотеку и брать книги. Кроме того, у меня были хвосты по географии и по математике.
Прибирая комнаты, я неожиданно обнаружил, что правый верхний ящик письменного стола заперт. Это меня удивило, так как я думал, что ключи от этого стола были давным-давно потеряны. Да и запирать-то было нечего. Лежали там цветные лоскутья, пара телефонных наушников, наконечник от велосипедного насоса, костяной вязальный крючок, неполная колода карт и клубок шерстяных ниток.
Я потрогал ящик: не зацепился ли изнутри? Нет, не зацепился.
Я выдвинул соседний ящик и удивился еще более. Здесь лежали залоговая квитанция и облигации займа, десяток лотерейных билетов Осоавиахима, полфлакона духов, сломанная брошка и хрупкая шкатулочка из кости, где у Валентины хранились разные забавные безделушки.
И все это заперто от меня не было.
От чрезмерного любопытства и бесплодных догадок у меня испортилось настроение.
Я вышел во двор. Но большинство знакомых ребят уже разъехалось по дачам. Вздымая белую пыль, каменщики проламывали подвальную стену. Все кругом было изрыто ямами, завалено кирпичом, досками и бревнами. К тому же с окон и балконов жильцы вывесили зимнюю одежду, и повсюду тошнотворно пахло нафталином.
Обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и сто граммов мороженого.
Пришел, съел и затосковал еще больше. И стало мне обидно, что не взяла меня с собой на Кавказ Валентина. Был бы отец — он взял бы!
Помню, как посадит он меня, бывало, за весла, и плывем мы с ним вечером по реке.
— Папа! — попросил как-то я. — Спой еще какую-нибудь солдатскую песню.
— Хорошо, — сказал он. — Положи весла.
Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:
Горные вершины Спят во тьме ночной, Тихие долины Полны свежей мглой;
Не пылит дорога, Не дрожат листы… Подожди немного, Отдохнешь и ты.
— Папа! — сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой. — Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.
Он нахмурился:
— Как не солдатская? Ну, вот: это горы. Сумерки. Идет отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов… винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите, — говорит командир, — еще немного, дойдем, собьем… тогда и отдохнем… Кто до утра, а кто и навеки…» Как не солдатская? Очень даже солдатская!
«Отец был хороший, — подумал я. — Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окно, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия».
Но как же, однако, все случилось? Вот соседи говорят, что «довела любовь», а хмельной водопроводчик Микешкин — тот, что всегда дарит ребятишкам подсолнухи и ириски, — однажды остановился у нашего окошка, возле которого сидела Валентина, растянул гармошку и на весь двор заорал песню о том, как одни черные очи «изгубили» одного хорошего молодца.
Быстро вскочила тогда Валентина. Гневно плюнула, отошла от окна, меня отдернула прочь и, скривя губы, пробормотала:
— Тоже… певец! Пьянчужка. Я вот пожалуюсь на него управдому.
Однако жаловаться управдому на Микешкина было бесполезно. Во-первых, жаловались на него уже сто раз. Во-вторых, пьяный он никого не задевал, а только вопил песни. А в-третьих, в нашем доме жильцы часто без разбора валили и в раковины и в уборные всякий мусор, из-за чего было много скандалов. А Микешкин всегда безропотно ходил, чинил и чистил, в то время как всякий другой водопроводчик давно бы на его месте плюнул.
«Любовь! — думал я. — Но ведь любви и кругом нашего дома немало. Вот напротив, возле шахты метро, стоят часовые, и у них, может быть, тоже есть какая-нибудь красивая. А вон в общежитии живут летчики, и у них, наверное, есть тоже. Однако же от любви ихней винтовки не ржавеют, самолёты с неба не падают, а все идет своим чередом, как надо».