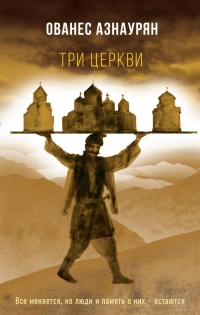– Римская политика, – сказала Вероника, – делается четырьмя-пятью beaux garçons, красавчиками, взявшими на себя труд обмениваться между собой тремя десятками одних и тех же самых глупых в Риме женщин.
– Quand ces trente femmes auront passé la quarantaine, – сказала княгиня фон Т*, – il y aura la révolution en Italie[285].
– Pourquoi pas quand ces quatre ou cinq beaux garçons auront plus de quarant ans?[286]– сказала Анна Мария фон Бисмарк.
– Ah! Ce n’est pas la même chose, – сказал Дорнберг, – les hommes politiques, on les renverse plus facilement que trente vieilles maîtresses[287].
– Au point de vue politique, – сказала Агата, – Rome n’est qu’une garçonniere[288].
– Ma chère, de quoi vous plaignez-vous? – сказала Вирджиния Казарди с американским акцентом. – Rome est une ville sainte, la ville que Dieu a choisie pour avoir un pied à terre[289].
– J’ai entendu un joli mot sur le Comte Ciano, – сказала Вероника, – je ne sais pas si je puis le répéter, il vient du Vatican[290].
– Vous pouvez le répéter, – сказал я, – le Vatican aussi a des escaliers de sеrvice[291].
– Lе Comte Ciano fait l’amour, dit-on au Vatican, et il croit faire de la politique[292].
– Фон Риббентроп, – сказала Агата, – рассказал мне, что во время подписания «Стального пакта» в Милане граф Чиано смотрел на него так, что ему стало неловко.
– A vous entendre, – сказал я, – on croirait que le Ministre von Ribbentrop aussi a été la maîtresse de Ciano[293].
– Теперь и он перекочевал в объятия Филиппо Анфузо, – сказала Агата.
Вероника рассказала, что графиня Эдда Чиано, к которой она не скрывала искренней симпатии, в последнее время много раз высказывала намерение развестись с графом Чиано, чтобы выйти замуж за молодого флорентийского патриция маркиза Эмилио Пуччи.
– Est-ce que la Comtesse Edda Ciano, – спросила княгиня фон Т*, – est une de ces trente femmes?[294]
– En politique, – сказала Агата, – Edda est celle, des trente, qui a le moins de succès[295].
– Итальянский народ обожает ее, как святую. Не нужно забывать, что она дочь Муссолини, – сказал Альфиери.
Все рассмеялись, а баронесса фон Б* обратилась к Альфиери:
– Le plus beau des ambassadeurs était aussi le plus chevaleresque des hommes[296].
Все опять рассмеялись, а Альфиери грациозно поклонился и сказал:
– Je suis l’ambassadeur des trente plus jolies femmes de Rome[297].
Его слова вызвали откровенный смех всех собравшихся за столом.
Таким образом, приписанное графине Эдде Чиано намерение выйти замуж за молодого маркиза Пуччи оказалось не чем иным, как простой сплетней. Но в словах Вероники и в замечаниях молодых немецких дам (сам Альфиери, жадный до сплетен, и прежде всего до сплетен римских, предпочитал в определенных случаях чувствовать себя, как он говорил, скорее послом тридцати милейших дам Рима, чем послом Муссолини) эта сплетня становилась фактом национальной важности, фундаментальным событием итальянской жизни и подвергала молчаливому осуждению всех итальянцев. Беседа долго вилась вокруг графа и графини Чиано, потом собеседники перемыли косточки молодому министру иностранных дел вместе с его ватагой золотой молодежи, красавицами палаццо Колонна и денди палаццо Киджи; далее прошлись насчет соперничества, интриг и ревности этого элегантного и раболепного двора, к которому сама Вероника с гордостью принадлежала (Агата Ратибор тоже пристала бы к нему, если бы не оказалась той, кого Галеаццо Чиано, будучи сам немного vieille fille, старой девой, ненавидел больше всего на свете, то есть vieille fille); собеседники перемыли косточки всем приближенным ко двору представителям цвета нации с его ищущим выгоды раболепием, жадностью до почестей и удовольствий, моральной индифферентностью, свойственной обществу, разложившемуся изнутри. Постоянно и гордо разлагавшееся итальянское общество, циничная и вместе с тем отчаявшаяся пассивность всего итальянского народа перед лицом войны сравнивались с героизмом народа немецкого; казалось, каждая из них – Вероника, Агата, княгиня фон Т*, графиня фон В*, баронесса фон Б* – хотела сказать: «Вот, смотрите, как я страдаю, смотрите, до чего голод, трудности, лишения и жестокости войны довели меня, – смотрите и краснейте». Наверное, остальные молодые дамы, чувствовавшие себя в Германии иностранками, краснели, не имея другой возможности скрыть улыбку, которую вызывала в них эта светская хвала героизму немецкого народа и блеск горделивых телес, элегантные туалеты и дорогие драгоценности; хотя, возможно, в глубине души они чувствовали себя равными всем остальным и одинаково с ними виновными.
Напротив меня между графом Дорнбергом и бароном Эдельштамом сидела женщина уже далеко не цветущая, она устало улыбалась фривольным и коварным фразам Вероники и ее подруг. Я ничего не знал о ней, разве только то, что она итальянка, что ее девичья фамилия Антинори и что она замужем за видным чиновником Министерства иностранных дел рейха послом бароном Брауном фон Штумом, его имя частенько мелькало в тогдашней немецкой политической хронике. С болезненной симпатией я наблюдал ее усталое, изможденное, но еще моложавое лицо, ее светлые, полные чарующей мягкости, почти тайного целомудрия глаза и мелкие морщины на висках и вокруг печального рта. Итальянская доброта и мягкая прихоть, как любовный взгляд, повисший на прикрытых ресницах, еще не совсем погасли в ее лице и глазах. Она изредка посматривала на меня, я чувствовал, что ее взгляд останавливался на мне с доверием и отрешенностью, которые тревожили меня. В один прекрасный момент я заметил, что она оказалась объектом недоброжелательного внимания Вероники и ее подруг, осматривавших с женской иронией ее непритязательное платье, не покрытые лаком ногти, невыщипанные и ненакрашенные брови, ненапомаженные губы, они испытывали чуть ли не злорадное удовольствие, находя в ее лице, во всей личности Джузеппины фон Штум признаки тревоги и страха, непохожего на их собственный, признаки грусти не немецкой, отсутствие гордости за лишения других людей, которым они сами беззастенчиво демонстрировали свое высокомерие. Но постепенно мне открылся тайный смысл этого взгляда, в котором я видел немую мольбу, как если бы эта женщина просила у меня сочувствия и помощи.