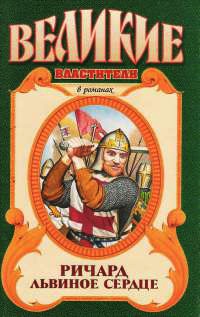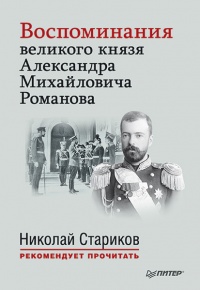Наконец семейство признало вину изменницы и ее соблазнителя неоспоримой и полной, заслуживающей только смертной казни. Оставалось лишь решить, каким способом изъять жизнь из тел Мухаммеда Аль-Кааги и Яугуя-аги. Тут все присутствующие просили Тамерлана о снисхождении, напоминая о многих заслугах молодого дипломата и об извинительной младости неверной жены, которая не успела еще как следует испытать власть своего мужа. В самую последнюю очередь были опрошены жены. К их чести, они тоже просили о снисхождении, а кичик-ханым Тукель и вовсе умоляла Тамерлана ограничиться крепкою поркой.
– Вот как? – удивился Тамерлан. – А не боится ли моя кичик-ханым, что коли она защищает изменницу, то может быть заподозренной в том, что и сама такая же?
– Нет, господин наш, – гордо отвечала дочь Хызр-Ходжи, ведая чары красоты своей, – не боюсь. Всяк скажет, что я являю пример верности и любви к мужу моему. И именно потому, что я уверена в себе, и прошу милости к падшей Яугуя-ага. И к ее любовнику. Да, и к нему.
– Что ж, – сказал Тамерлан, – ответ, достойный звания кичик-ханым. Ну а что скажет наша великая царица Сарай-Мульк?
– Я могу повторить все, сказанное кичик-ханым, – произнесла биби-ханым. – Мне тоже жалко маленькую Зумрад, которую вы назвали красивым именем Яугуя-ага. О соблазнителе просить не стану. Его следует казнить самой лютой казнью. Но и о неверной жене не хочу хлопотать. Не потому, что я жестокосердна. А потому, что желаю справедливости. Вспомните, как десять лет назад была обвинена в неверности Чолпан-Мульк. Вина ее не была настолько очевидной и вопиющей, как вина Зумрад. И все-таки Чолпан-Мульк в назидание всем женам нашей страны была заживо сварена в кипятке. Так чем же, скажите мне, Зумрад отличается от Чолпан-Мульк? Я прошу господина нашего соблюсти справедливость.
– Вот чью речь я выслушал с наибольшим удовольствием! – воскликнул Тамерлан, когда Сарай-Мульк поклонилась и села на свое место. – Благодарю тебя, моя самая дорогая и самая умная жена. Потребуй у меня еще денег для ремонта твоей гробницы, и я с радостью выделю тебе нужную сумму, лишь бы твоя усыпальница поскорее была построена. Слышите? Биби-ханым явила сегодня пример для всех жен чагатайских, не оправдывая изменщицу, а требуя для нее самой страшной казни. Ах я, добрейший из всех государей, когда-либо живших на этой земле! Ведь слушая ваши мягкие речи, я и впрямь решил было сменить гнев на милость и чуть ли не отпустить преступников туда, куда они так стремились, убежав из Самарканда. Но слова Сарай-Мульк отрезвили меня, как холодный осенний дождь. Неужто и впрямь Яугуя-ага чем-то лучше, нежели бедняжка Чолпан-Мульк? Да чем же? Ничем! А потому, выслушав обвинение, выдвинутое судом и показывающее бесспорную и страшную вину Мухаммеда Аль-Кааги и той, которую я некогда называл Яугуя-агой, повелеваю…
Наступила мрачная тишина, в которой застеснялись скрипеть даже калямы секретарей.
– …обоих преступников сварить в крутом кипятке, медленно опуская – сперва ступни; потом по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, а уж потом полностью.
Все зашевелились и заговорили вполголоса, сообщая друг другу, что восхищены столь строгим, но справедливым приговором хазрета.
– Нет! – закричала тут Зумрад. – Господин наш! Позволь мне сказать!
– Что ты можешь сказать, глупая коза? – удивился. Тамерлан тому, что, услышав приговор, Яугуя-ага не упала без чувств.
– Я хочу открыть вам одну страшную-престрашную тайну! – отвечала Зумрад.
– Тайну? Я обожаю тайны, – усмехнулся «меч справедливости». – Ну, я слушаю тебя.
– Нет, я не могу при всех, позвольте, я скажу вам это на ухо, – проговорила Зумрад, бледная как молоко.
– Ну, хорошо, – вновь усмехнулся Тамерлан. – Подведите ее ко мне.
– Только я прошу, хазрет, об одном, – громко объявила Зумрад, когда ее подвели к убежищу вселенной.
– О чем же?
– Обещайте за то, что я открою вам эту тайну, смягчить участь Мухаммеда Аль-Кааги, которого я сама соблазнила колдовством и который ни в чем не виноват. Обещайте, что вы отпустите его, узнав, какой страшный заговор царит против вас при дворе.
– Все-таки ты ужасно смешная, – ответил Тамерлан. – Как я могу давать слово, если я не знаю, о чем речь! Ну, хорошо, если ты раскроешь мне глаза на заговор, угрожающий всему роду чагатайскому, я прощу Мухаммеда. Если же это что-нибудь помельче, то ничего не обещаю. Вот мое последнее слово. А теперь шепчи.
Зумрад посмотрела на своего возлюбленного. Мухаммед смотрел на нее остекленевшими глазами.
– Государь мой, – зашептала Зумрад в самое ухо Тамерлана.
– Щекотно! – поежился Тамерлан. – Ну-ну, слушаю.
– Подле вас находится опасный человек. Это мирза Искендер. У него есть чернила, которые тают через несколько мгновений после того, как ими что-то написать, и нужно лишь поднести лист к огню, чтобы написанное вновь возникло на бумаге. И вот такими волшебными чернилами он пишет историю о злом и нечестивом царе Тамерлане. Он пишет ее уже давно, с тех пор, как приехали послы короля Энрике. Они-то и привезли ему склянку с волшебными чернилами. Вот. Отпустите Мухаммеда! А меня варите!
– И это все? – разочарованным голосом проговорил Тамерлан. – Так вот, дорогуша, скажу тебе честно: я давно уже об этом знаю.
– Как знаете?!
– А вот так! Ну да ладно, – произнес он уже громким голосом. – Все-таки я самый добрый из всех царей на свете. Повелеваю: Мухаммеда Аль-Кааги не варить в кипятке, а повесить во внутреннем дворике Кок-Сарая. И второе. Эй, стража! Немедленно схватить мирзу Искендера. Вон того, среднего из секретарей. Да-да, этого! Пришел твой час, Искендер. Сколько реке не течь, она все равно рано или поздно впадает в море или в другую реку. Заточить мирзу Искендера в одиночный сырой зиндан!
– За что, хазрет? – не зная сам зачем, выкрикнул Искендер.
– За то, что зря мы мирзе Сулейманбеку язык отрезали, – отвечал Тамерлан.
Глава 52. Самый добрый из всех царей на свете
Казнь Мухаммеда и Зумрад была назначена на завтра и должна была состояться сразу после вечерней молитвы. В этом тоже заключалась доброта «меча справедливости» – он давал осужденным какое-то время пожить на этом свете. Судьбу мирзы Искендера еще предстояло решить.
Вечером того дня, когда состоялся суд, Тамерлан вызвал к себе минбаши Джильберге, усадил его вместе с собой ужинать, угостил хорошим вином, просил припомнить еще какие-нибудь подробности поимки Мухаммеда и Зумрад, и Джильберге заметил, что повелитель пребывает в каком-то печальном настроении.
Когда немец подробно описал встречу с испанцами на Зеравшанском перевале и умолк, Тамерлан вдруг спросил:
– Послушай, Джильберге, а тебе не жаль было этих двух пойманных тобою птичек?
– Бывает, что и охотнику жаль дичь, которую он убивает, но кабы тот охотник поддавался чувству жалости, что бы это была за охота? – ответил Йоханн.