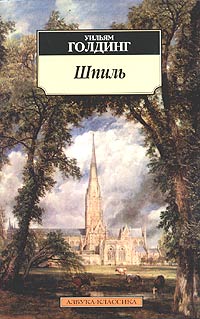Замер и не мог выйти из ванной, боясь встретить мужчину — самого себя.
Я дам Серафимычу то, о чем он, может быть, подсознательно мечтал всю жизнь и чего больше всего боялся в себе.
— Я тебя хочу удивить, — сказал он с таинственным намеком.
— Чем? — я едва не рассмеялся.
— Я. Написал. Радушевской. Письмо. Такое, какое только я могу! Ах, какое письмо — проза настоящая!
— A-а… а вот я тебя сейчас точно удивлю!
— Что, что-то случилось?
— Не совсем.
— Что-то плохое, скажи сразу, Анварик?
— Нет, наоборот, иди наверх.
— Не пугай меня, Фонарик.
Я разделся в ванной и на голое тело надел плащ. Сейчас поднимусь и распахну перед ним плащ. Он сидел в нашей комнате, она казалась маленькой. И вдруг я смутился и понял, что я не могу.
— Чего ты?
— Ничего, я хотел тебя поразить, — сказал я и еще больше смутился.
— Ну что такое? — уже раздраженно спросил он.
Я прошелся перед ним, зная уже, что не смогу, а потом распахнул плащ. Он вначале ничего не понял, а потом гаденько захихикал.
— Ты что… ты что сделал?! — восклицал он и хихикал.
— Я хотел быть как маленький мальчик.
— Ты что?! Я что тебе, старый пидарас какой-нибудь?
— Тебе не нравится?
— Что я, пидарас старый?
— А-а.
— Ты что, весь побрился? Ну ты… ты что обо мне думаешь, что я, старый пидарас…
Ему нравилось повторять это, нравилось чувствовать себя здоровым мужчиной, убеждать меня в этом. Ей противен был его грубый смех, его мужской взгляд, его мужское, насмешливое и пренебрежительное удивление перед патологичным, безвольным и похотливым женским телом, унижающимся перед ним. Я почувствовал её несуразность, нелепую недоделанность и разделенность и знал, что она всегда будет чувствовать свою недоделанность, несуразность и разделённость.
Он снова удивленно захихикал. И ей, безмерно обиженной, как будто бы нравилось все это терпеть, ей было сладко это унижение, это неожиданное неприятие, но где-то там под спудом она уже знала, что когда-нибудь отомстит, так сложится все, что ей придется отомстить.
В конце апреля, в среду, он уезжал в командировку в Крым по заданию своей редакции.
— В Ялте сейчас расцветает иудино дерево, — сказал он у вагона. — Апрель — самое лучшее время в Крыму.
— Да-а, хорошо тебе.
— Съезжу, тем более что фирма все оплачивает. Мать повидаю.
— Да-да, поезжай, надо повидать.
— До встречи, Степной барон! Дождись меня…
Поезд тронулся. Он, выпрыгивая из-за спины кондукторши, махал и махал мне кепкой.
— Мужчина! — отпихнула она его. — Хватит полоскать шляпой.
четырнадцать
Мягкий свет фонарей. В разбухших почках клена что-то от разбухшей вагины и возбужденной головки члена.
Ходил целый день. Вдруг увидел — девочка села на корточки помочиться, я потом понял, что это бульдог, и стиснул челюсти.
Делал все что угодно, лишь бы не подходить к столу, и потому позвонил Свете — у нее экзамены. Позвонил Марусиньке просто, чтобы узнать о Кларке, дальней знакомой Асель.
— Клара уехала в Киргизию и оттуда позвонила мужу, что, мол, больше не вернется к нему, — как-то по-родственному сказала она. — Потом передумала, все-таки поедет с ним в Турцию…
— A-а, яа-асно…
— Я тут уборку делаю, — говорила она домашним голосом, и вдруг вскрикнула: — Ай, ай, брось, ну-ка брось… подожди, тут моя собака клей «Момент» прокусила. Кен! Я кому сказала, Кен?!
Неожиданно для себя весело и равнодушно пригласил Марусиньку на выходные, памятуя об ее большой груди и чувствуя себя менеджером среднего звена, который каждые выходные делает шашлык и ходит танцевать.
С потолка свисали груди и трепетали. Я разделся догола. Он был ненормально маленький и вялый хоботок, но он стоял. Он теперь стоял, даже когда был вял. Мыл полы. Придумывал самые тугие набедренные повязки, и, терзая половую тряпку, напрягал мышцы, изгибался и скручивался, это Она стягивала и мучила, хотела сделать больно телу, из которого не могла выскользнуть, она билась и стенала во мне.
Утром с удовольствием выпил баночку джин-тоника — холодная тонкость жести, вспышки капель на солнце. Как сладко пьянят и горчат напитки перед встречей с девушкой.
Марусинька шла от последнего вагона, в коричневом костюме и с таксой на поводке. Я ее сразу не узнал. Чувствовалось, какие у нее тонкие ручки, какие тонкие и стройные под брючками ножки. Она щурилась на солнце и кого-то искала. У нее веснушки пятнами на переносице. Прошла мимо.
Я пошел за нею и тронул ее за рукав. «Ты что же, не узнаешь меня»?
У меня почему-то всегда с нею был немного обиженный, насмешливый и недоверчивый голос.
Шли долго. Такса смешно спешила через дорогу, короткие ноги казались отдельно от тела.
— А как ее зовут?
— Это мальчик, он — Кен.
— Кен, смешно.
Я радовался, что она в костюме, я предложу ей переодеться. Шел и колдовал, чтобы не было Сыча.
Она переоделась, и ей было радостно. Приятно угадывать ее тело под моей красной майкой и синими спортивными штанами, и странно и мило, что моя одежда такая большая на ней. Мне хотелось быть мягким, утонченным и чудаковатым, что-то особенно сексуальное было в этом, и в том, что я как бы и не думал о ней, как о женщине. Жалел, что у меня нет кашемирового кардигана.
Мы выпили кофе, медленно, будто оттягивая нечто. Потом она замачивала мясо в вине. Мысль моя перескакивала с одного на другое, я мог рассказывать ей о чем угодно и потому молчал, задыхаясь от радости.
— А ты знаешь, Марусь, как я шампуры сделал?
— Как?
— Я распрямил железные плечики для одежды.
Её смех показался мне таким знакомым. Кто же так смеялся?
— Марусь, а давай пока выпьем.
— Давай.
Я предвкушал, как радостно выпью с ней, как приятно мне будет напиваться.
— Это одно из самых дорогих крымских вин «Мускат белый Красного камня». В Англии эксперт профессор Тейчер сказал, что это вино неуважительно пить сидя.
Она торжественно встала, слушала и улыбалась.
— Граф Воронцов вместе с крымскими татарами раскопал корешки винограда, который высадили еще древние греки. Из этого винограда стали делать массандровское вино. Массандровским хересом даже лечили Брежнева…
Мы выпили. И я вдруг поразился тому, насколько обычный, даже неприятно сладковатый вкус у этого вина. И ей тоже, по-моему, не понравилось.