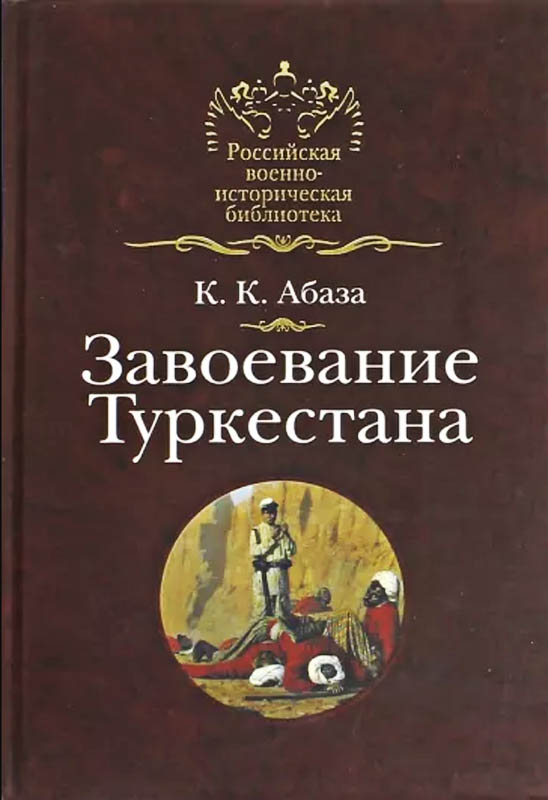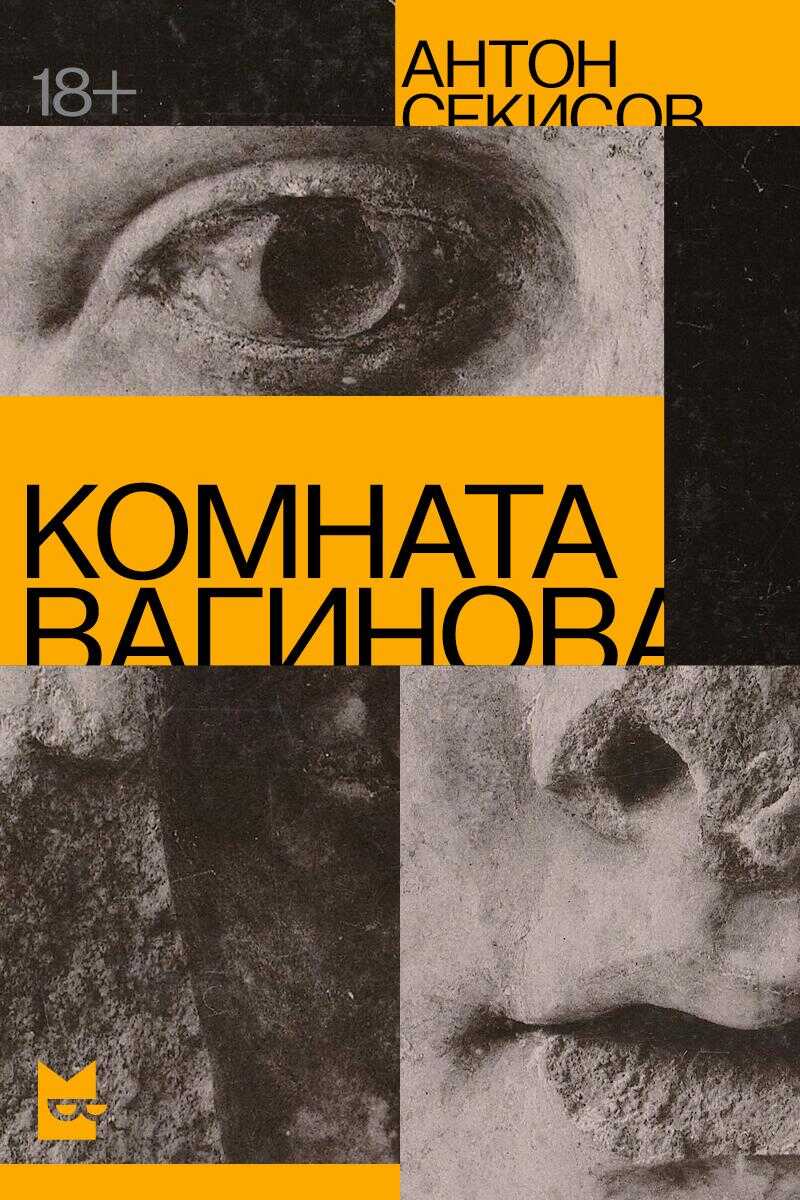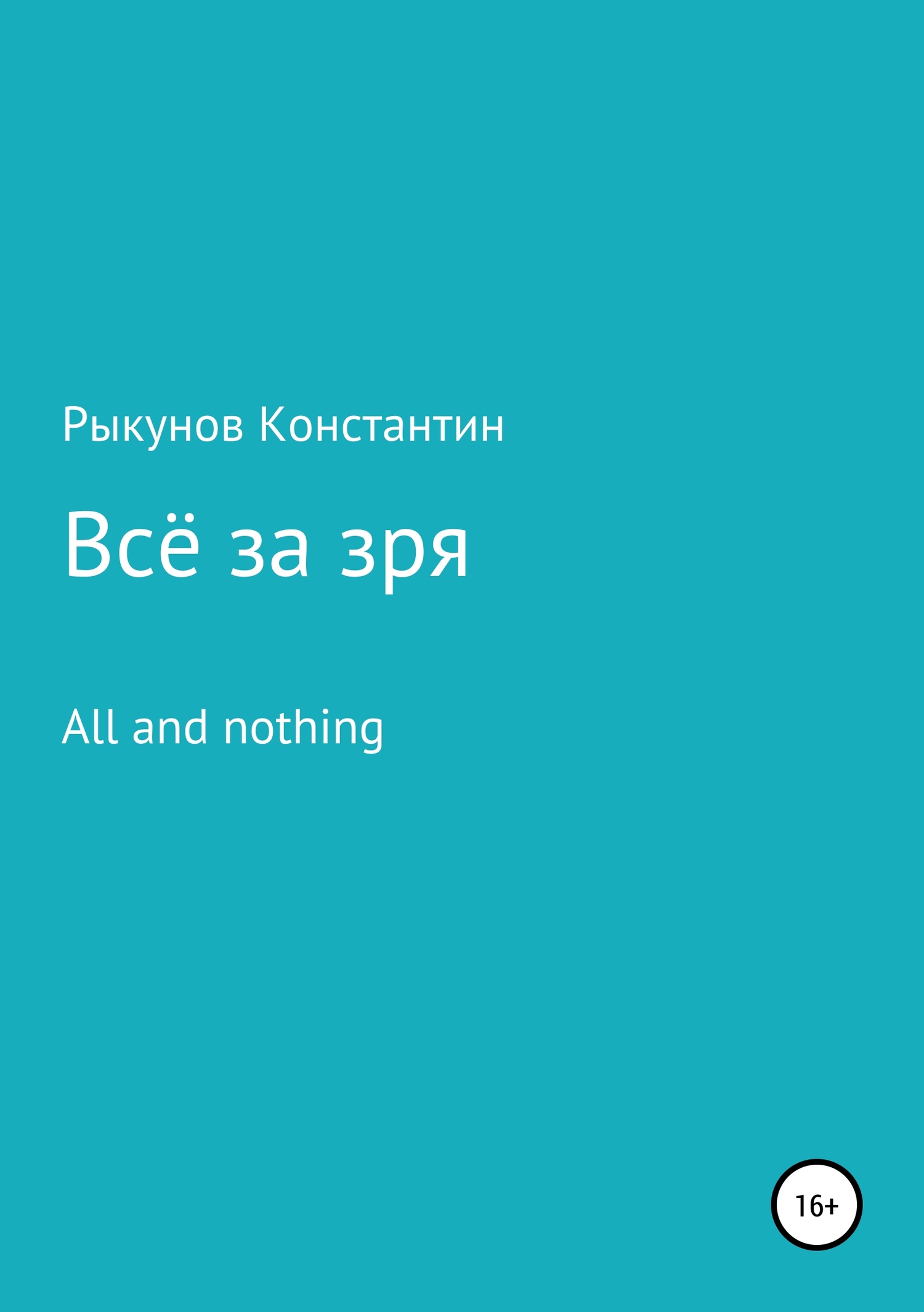серебряными виноградными листьями, и приготовленные по старинному способу миноги и семга, цвета нежнейшей розы, – выбили Анфертьева из колеи.
Время для него исчезло.
Наконец, мысли стали отчетливей.
Он вспомнил, как поклонник-гимназист принес его матери букетище ландышей и как мать не знала, что ей с букетищем делать, потому что в комнате его оставить было невозможно, ведь у всех разболелась бы голова. Но и выбросить цветы было жалко. Букет был помещен за окно, но, и находясь там, он все же наполнял всю квартиру своим одуряющим запахом. Запах проникал даже на лестницу, так что все знакомые считали своим долгом поговорить об этом букете.
Анфертьев смотрел на вазу с ландышами.
– А я в вашей квартире жил! – вырвалось у него.
– Это очень интересно, – подхватил Пуншевич, – расскажите нам свою жизнь.
– Я соврал, – сказал Анфертьев, – никогда я в этой квартире не жил.
– Вообще, этот дом замечательный. Принадлежал он португальскому консулу, Антону Антоновичу Дауеру, – сказал Торопуло, – последнему представителю стариннейшей фирмы, торговавшей винами. У него был попугай, чуть ли не двухсотлетний, даже на этикетках фирмы изображен был этот попугай. Стал он своего рода живым гербом. Сидит, сидит, скучает и вдруг запоет шотландскую песню, полную меланхолии, или голландскую о море, или вдруг исполнит арию из «Прекрасной Елены». Висел он в клетке в кабинете у хозяина, а хозяин сидит за письменным столом, курит, мучительно думает, вспоминает подругу своего сердца, норвежскую опереточную певицу, взглянет на свою жену, и выпить ему захочется. Неслышно подойдет к шкафчику и лишь захочет налить рюмочку горькой, уже исполняет попугай «буль-буль-буль». Слышит супруга, сидит она вечно в обшитой дубом столовой, чтоб видеть мужа, и вяжет салфетку для печенья. Кричит:
«Саша, Саша, ду тринкст ви эйн бауер» [22].
Отойдет последний представитель столетней фирмы от шкафчика и снова сядет за письменный стол скучать и думать, а попугай поет шаляпинским голосом:
На земле весь род людской
Чтит один кумир священный,
Он царит над всей вселенной,
Тот кумир – телец златой.
В кабинете стоял граммофон, среди прочих пластинок была и пластинка с этой арией. Гости очень любили эту пластинку.
– Характерно, – сказал Пуншевич.
– Дауер был тихий, скромный человек, ему хотелось пожить в свое удовольствие, но супруга была честолюбива, она заставила своего мужа стать португальским консулом. Чтоб несколько удовлетворить свою жену, чтоб быть свободнее, чтоб отдаться своей любви, Дауер стал португальским консулом. Но почтенная супруга его принялась устраивать приемы и званые вечера. Дауеру пришлось организовывать эти вечера и на них присутствовать. Так ему и не удалось пожить в свое удовольствие. Его постигла трагическая участь. Однажды Антон Антоныч должен был ждать на вокзале приезда португальского короля. Погода была промозглая; осенняя, петербургская. Несчастный Дауер все ходил по перрону, скучал, мысленно укорял супругу, из-за которой он должен в такую погоду торчать здесь. Ему стало жарко, затем холодно. Совсем больной он вернулся с вокзала. От крупозного воспаления легких он скончался. Вот вам и жизнь человека. Желтоватый газовый свет по вечерам по-прежнему освещал Петербург того времени, в переулках стояли цепи извозчиков и лихачей, женщины в длиннее фигуры платьях с круглыми муфтами в руках плыли, за ними следовали мужчины в брюках, касавшихся пят, рестораны были освещены, театры были полны, в одном из них пела его возлюбленная. Но попугай больше не кричал «буль-буль». Помню, я шел за его гробом, масса было людей в треуголках. Вдову вели под руку бельгийский и германский консулы. Так умер последний владелец этого дома, а строил его какой-то прокурор, приносил он много доходу. Здесь были только огромные квартиры.
Ночь прошла в занимательных рассказах. Рано утром покинул Анфертьев своих новых покупателей. Он радостно спускался по украшенной изображением Меркурия мраморной лестнице.
«Торговля расширяется, – думал он, – в прежнее время я сел бы в автомобиль и поехал бы на Острова, или кутить к Эрнесту, или в “Самарканд” к татарам, или в Новую Деревню к цыганам. Там для меня поставили бы самовар, цыганки бы пели и танцевали, а затем сиреневое утро за окном, выйдешь – на аллее воробьи чирикают и автомобиль ждет. Дома скинешь шубу на руки лакею, отдашь цилиндр и пройдешь в свою спальню. Велишь разбудить себя в два часа, никого не принимать, говорить, что нет дома. Как приятно раздеться после бессонной ночи и, почитав минут пять, уснуть. В два часа кофе с лимоном, наденешь халат и идешь в кабинет, где уже лежат телеграммы и письма. А в кабинете удобное кресло. Вечером театр или клуб, – усмехнулся Анфертьев, – я торгую предметами, на которые, несомненно, появился бы спрос после войны».
Анфертьев шел по сиреневым улицам, голуби ворковали под крышами, воробьи чирикали. Прохожих еще не было.
Анфертьев решил пройтись по Неве.
Глава V
Переезд
Боязнь старости мучила Локонова. Лежа в кровати, он с грустью смотрел на уже выхолощенные для него предметы. Когда-то с большой любовью он приобретал и этот письменный стол времен Александра I, и этот шкафчик для книг времен Павла I, этот диван и эти два кресла красного дерева. Он вспоминал, как он расставлял их, стараясь чтобы они давали как можно больше впечатлений его душе, чтоб вокруг них незримо реяли какие-то краски, какое-то ощущение вызывалось бы ими разных эпох и чтоб это все сливалось в некое целое. На этом диване он любил читать Пушкина, растроганный, даже иногда плакал над отдельными строчками, не в силах вынести красоты. Как он любил Достоевского и как волновали его эстетические проблемы! Теперь эти вещи умерли, и было неприятно Локонову, что они стоят в его комнате, что при взгляде на них целая сеть воспоминаний возникает и тянет за собой обратно его, Локонова, постоянно напоминает ему об его возрасте. Ощущение под боком вещей неприятных раздражало Локонова. Они стали ему не только не нужны, не только неприятны. Они стали отвратительны для него. Локонов решил отделаться от них, продать их.
Засыпая, он думал о том, что следует дать объявление в «Вечерней Красной», что вот на улице такой-то, в квартире в такой-то продается письменный стол красного дерева времен Александра I, шкаф времен Павла I, диван и кресла красного дерева. И последние мысли Локонова были, что мать его страшно удивится, будет страшно жалеть и уговаривать его не продавать. А утром встал Локонов и ему показалось, что он видел сон: в неком замке живет прекрасный юноша, и все-то