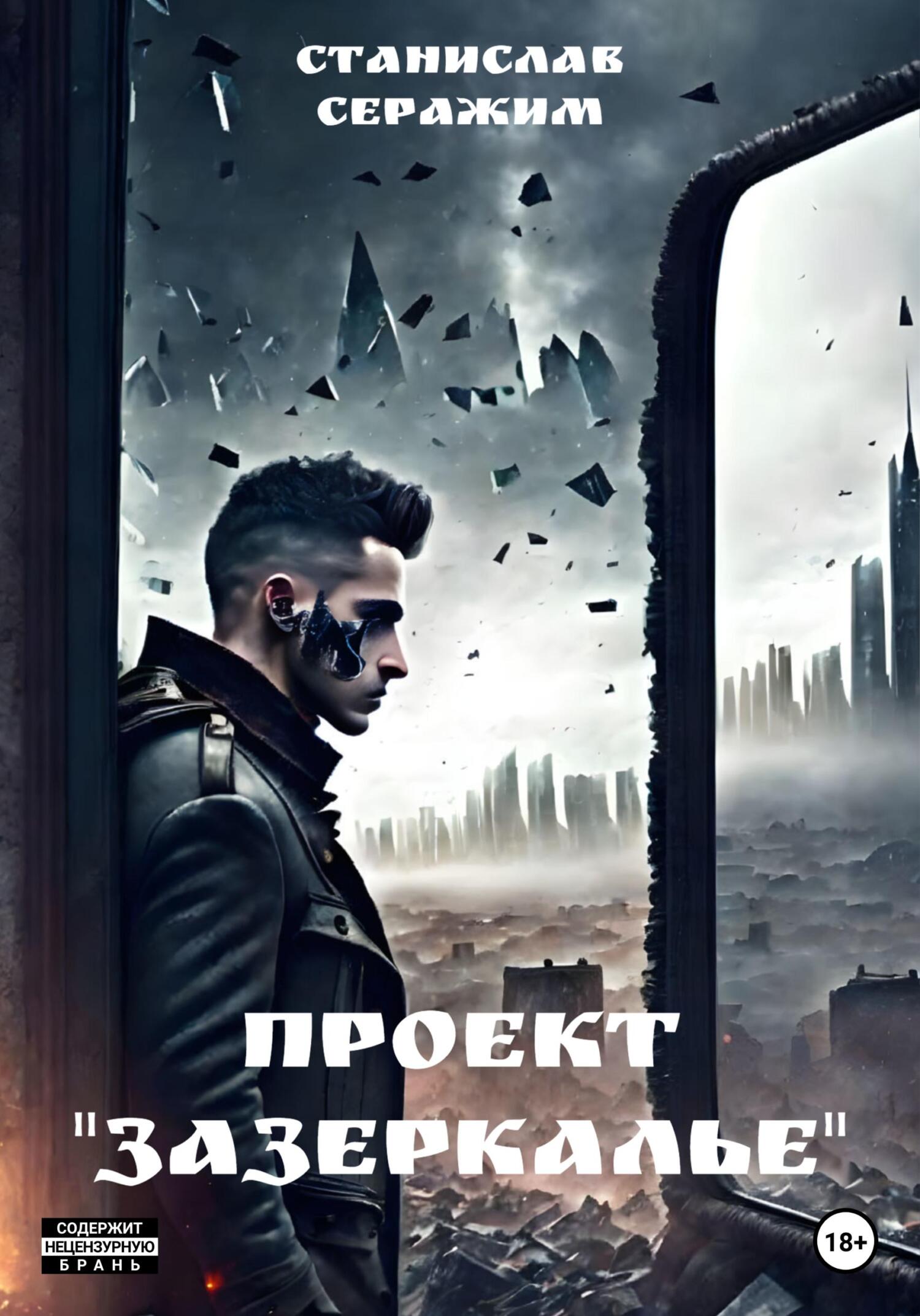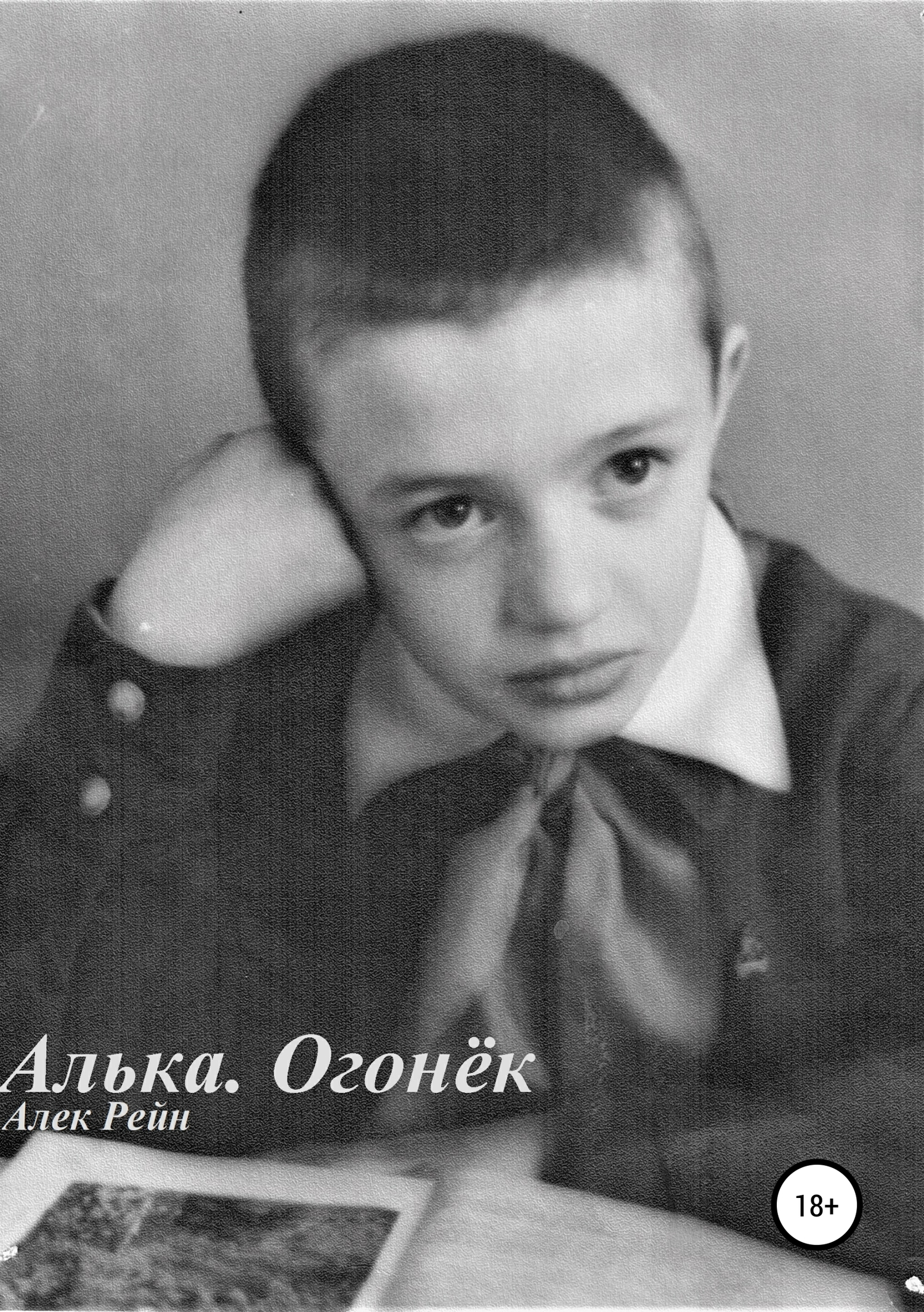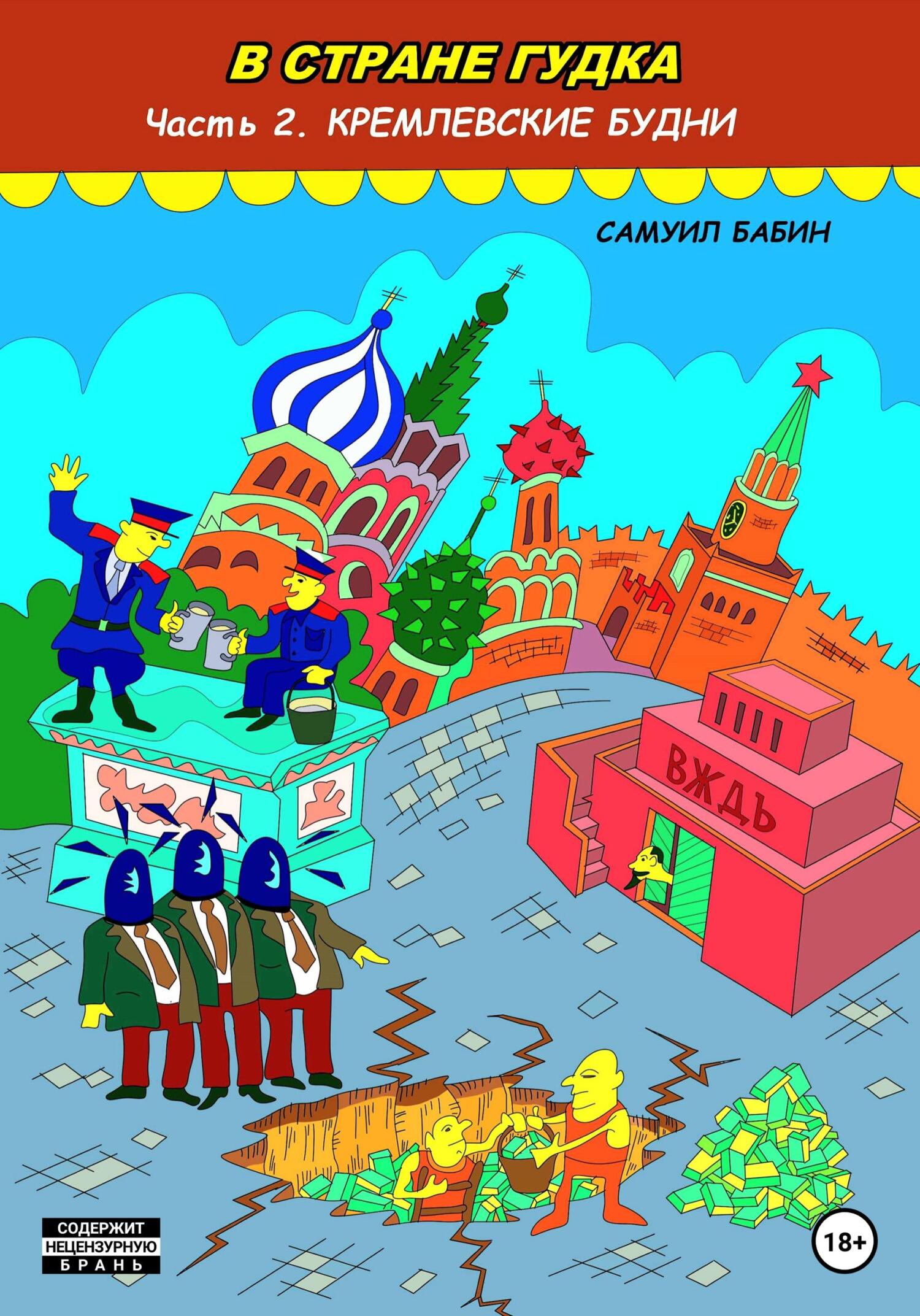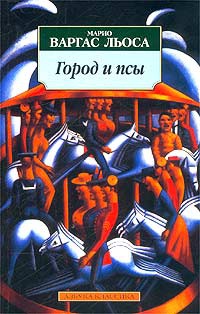стройную, воодушевившуюся — и едва заметно улыбался.
— Конечно, знание не нуждается в звании... — чуть сникла она и обратилась к Афзалу: — Но нужно же кончать! Дома — удобней заниматься... А осенью переедем, ладно?
Афзал кивнул и откуда-то из-за спины потащил тяжелую коробку — картонную, в пестрых ярлыках.
— Фархад приехал... — откинул он крышку.
Тускло блеснули тюбики красок. Грузные, пузатые, сложенные как патроны в обойме крупнокалиберного пулемета.
— Ну-у! Он привез? — нагнулся Никритин, выхватил свинцовый тюбик, прочел этикетку. — Французские!.. И ты еще сидишь, терпишь, не хвастаешь?!
— Что хвастать? — застенчиво-хмуровато ответил Афзал. — Тебе принес. Два комплекта было.
Он снял коробку с колен и поставил на пол возле ног Никритина.
— Мне? — не поверил Никритин. — Себе же не хватит. Не возьму.
— Если друг, возьмешь... — уже оправившись от смущения, насупился Афзал.
Никритин обернулся к нему, помедлил и, схватив за плечи, повалил на диван, затискал. Афзал отбивался, хохотал.
— А что, наши хуже? — спросила Кадмина, переждав их возню.
— Хуже, — сказал Никритин, откидывая назад растрепавшиеся волосы. — Никогда не знаешь — какую шутку сыграют: темнеют, меняют цвет. Плохо еще с красками.
— Так кто же этот чудесный Фархад? — обратилась Тата к Афзалу.
— Брат... — ответил Афзал, одернул рубаху и улыбнулся. — В Канны, черт, ездил. На Международный конгресс врачей. В Париже был, в Лувре. Хорошо, где справедливость? Нам бы — в Лувр, правда, Лешка?
Засмеялись.
— Ну, а что на конгрессе? — спросил Никритин.
— Приезжай. Фархад сам расскажет, — ответил Афзал. — Выступал содокладчиком по теме «Ионизирующие излучения». Словом, против атомных бомб. Приезжай: наговоритесь, как человечество спасать...
— А вы не верите в опасность? — спросила Кадмина.
— Я верю в это... — Афзал постучал пальцем по лбу.
Он встал и молча подошел к портрету Таты.
Никритин все перебирал тюбики, отвинчивал колпачки, нюхал. Кадмина с понимающей иронией смотрела на него.
— Что скажешь? — подняв голову, спросил Никритин.
— Днем надо посмотреть... — уклончиво ответил Афзал, но потом не сдержался: — Не надо делать икону. Зачем тебе Рублев, ты сам можешь!..
Никритин передернулся, как фигурная мишень в тире после меткого попадания. Скурлатов заронил в нем лишь сомненья, но по-дружески бесцеремонно убил Афзал.
— Бойтесь его, хорошо? — обернулся он к Тате. — Богоматерь сделает...
— Ну, на кающуюся Магдалину я бы еще согласилась... — принужденно, неприятно для Никритина хохотнула Тата: — А богоматерь — это уж слишком...
Никритин помрачнел. Наступило молчанье. Афзал недоуменно оглянулся на них, ничего не понял...
— Вообще-то мне пора... — оттолкнулась наконец от подоконника Тата. — Идемте, Афзал, я подвезу вас. Заодно посмотрю, где предстоит нам жить.
Она подошла к Никритину. Подумав, сжала ладонями его щеки, поцеловала. Словно просила прощения...
...Стрекотал будильник. В доме было тихо.
Никритин убрал краски и задумался.
Да, надо решиться. Решиться — и переехать. С Кадминой тут жить немыслимо! Тетка стала совершенно невыносимой: подглядывала, подслушивала, корила беспутством. Еще сегодня утром отчитывала, скрестив руки на груди и оглядывая комнату:
— А накурили-то! А натоптали-то!.. Чисто свинушник!.. Хоть бы сам вытирал ноги, когда входишь. А ботинки-то, ботинки-то — свят, свят!
В дверь чуть слышно постучали.
— Да!.. — обернулся Никритин.
Вошел дядька, Афанасий Петрович.
— Вот... журнал твой принесли сегодня... прости, зачитался... — произнес он виновато, протягивая номер «Творчества».
Непонятно поглядывая, прошелся на сгибающихся ногах взад-вперед. Ступал по скрипучей половице, будто канатный плясун. Сунул скрюченный палец под тесный ворот рубахи, покрутил петушиной шеей.
Никритин насторожился: видать, неспроста этот поздний визит. Но Афанасий Петрович не торопился. Подошел к тумбочке, приподнял пустую бутылку, поставил на место.
— Женишься, что ли? — оборотился он. — Догадался бы познакомить с невестой... Не чужой, кажется...
— Да с чего вы взяли? Невеста!.. — всполошенно махнул руками Никритин и мгновенно покраснел. — Наговорит тоже тетя Дуся!
— А... Ну да... невеста — это несовременно, — покивал усмешливо Афанасий Петрович и щелкнул ногтем по бутылке. — С этим добра не наживешь. Ладно, женись уж...
— Чья бы корова мычала, дядя... — съехидничал Никритин, оправляясь от смущения.
— Знаю, не тычь... — отвернулся Афанасий Петрович, чуть сгорбился, выставив костлявые лопатки. — А ты мне скажи — почему сие? Вот вроде бы и с темнотой покончили, и к культуре все больше идем. А пьем... Пьем! Потому издержек много на нервы. Мелочь пузатая. А мелочь, она как мошка. Одна — ничего, а туча — гибель...
— Да что случилось-то? — почувствовал неладное, отрешился наконец от своего Никритин.
— Случилось, случилось!.. — едко передразнил Афанасий Петрович. — То и случилось, что ручному набору конец! Не сегодня, так завтра... Вот как и твоей мазне... Все техника забьет.
Никритин понял. Видимо, опять клишированные заголовки вытеснили в номере газеты все, что заготовил цех ручного набора. Трагедия исчезающих профессий...
Ну а сам? А станковая живопись, жанр?
Кто знает, кто знает...
— Вон почитай в своем журнальчике... — с мстительным злорадством, совсем стариковским тенорком произнес Афанасий Петрович. — Ваши тоже загибаются... Гибнет, пишут, масляный пейзаж-ералаш...
Он еще раз щелкнул по бутылке и на гнущихся ногах, не прощаясь, пошел к двери.
Никритин оглянулся на лощеную, меловой бумаги обложку журнала, брошенного на диван, но читать не стал — подошел к окну.
Синела звездная немота ночи.
Завтра — на работу.
Кончался август. Кончалось лето...
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Шелковисто терлись листья платана, разлапые, ставшие жесткими, как игральные карты. Терлись, шелестели, неуловимо припахивая осенью. Неуловимо, едва заметно, все еще переложенные густым солнцем.
Велика инерция азиатского лета: миновал сентябрь, кончался октябрь, а солнце густело по-летнему, и деревья оставались зелеными. Казалось непонятным, откуда берутся желтые и багровые листья, празднично устилающие к утру скверы и улицы. Их сгребали в кучи и жгли, эти листья...
Невидимый, растворенный в воздухе дым, едкий, горьковатый, стлался по улицам, и от него першило в горле.
Осень,