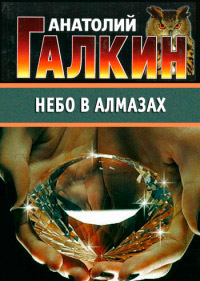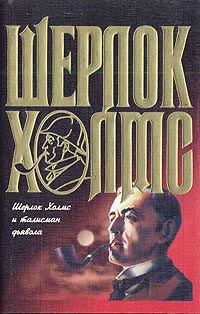Вернувшись из Пондишери в том возрасте, когда Кампана обычно начинают получать серьезное образование, Борис разрывался между регатами гондольеров, соблазнением красоток и долгим стоянием перед алтарными образами. Так мой дядюшка и остался самоучкой с детскими увлечениями, состарившимся мальчишкой, не способным ни к какому расчету. Под хорошее настроение брат называет его дилетантом, под плохое — неудачником. И то, что этот никчемный тип оказался осведомлен гораздо лучше его, ради чего ему не пришлось пошевельнуть и мизинцем, приводило Альвизе в бешенство. Борису лучше бы выложить начистоту все, что он знает об этом Волси-Бёрнсе, о делишках, которые они вместе обтяпывали, рассказать без прикрас, вернее, без вранья, как они выдавали третьесортные картины за шедевры.
Я считаю, что брату очень повезло с нами. Там, где другие оскорбились бы и гораздо меньшим, мы выносим его хамство с неисчерпаемым великодушием, понимая, как тяжело ему, бедному комиссару полиции, нести на своих плечах груз вселенских забот. Возможно, нами движет та самая сентиментальность, которая заставляет зрителей аплодировать плохим актерам, вкладывающим в свою фальшивую игру всю душу. Не знаю, почему Альвизе с таким упорством скрывает от нас, как он барахтается, как ошибается, как сомневается — как все. Должно быть, это какая-то профессиональная деформация: мой брат повсюду видит врагов.
Борис расхохотался. Если бы он знал, что Волси-Бёрнс угодит в канал с перерезанным горлом, он ходил бы за ним по пятам, записывая в блокнот все его перемещения по Венеции, все встречи. Он расспросил бы и о его пребывании в Неаполе, Риме и во Флоренции, где он, вне всякого сомнения, тоже наплодил себе врагов, которые были бы счастливы заткнуть его, перерезав ему глотку. Но что случилось, то случилось, и Борис мог только рассказать, как Волси-Бёрнс приходил к нему во двор Бароцци.
В глубине двора, над мастерской по пошиву мужских сорочек, Борис снимает мансарду, где под беспрестанное жужжание швейных машин показывает любителям живописи свою коллекцию. Никогда дядя не стал бы выставлять свои находки в лавке. Это означало бы скомпрометировать себя, выступив в роли торговца, гоняющегося за покупателями. Он показывает свои взлелеянные и обласканные в течение долгих лет шедевры с неохотой, сдержанно хвалит их и с сожалением расстается с ними.
С тем англичанином они сначала обменялись несколькими банальностями по поводу кризиса, падения ложных ценностей современного искусства, налаживания рынка после многолетних спекуляций. На языке хищников это означало, что Волси-Бёрнс собирался воспользоваться общим застоем и играть на понижение цен, взяв мелкого торговца за горло. Мой дядюшка давно привык к тому, что его берут за горло, он благоговеет перед живописью и презирает хищников, которых обычно спроваживает, выставляя немыслимо высокие цены. Его покупатель должен быть ему под стать, он должен понимать его, нравиться ему до такой степени, чтобы в конце концов стать ему другом, достойным доверия, которому можно предоставить кредит или предложить обменять одно из своих самых ценных полотен на новый объект для лелеянья, притом без единого гроша выгоды. Но к Волси-Бёрнсу этот дружеский стиль совершенно не подходил. Тот принадлежал к породе богачей с фальшивыми коллекциями, которые только и думают что о «выгодном дельце» и по глупости считают себя компетентнее торговца, которого собираются надуть.
Борис показал ему своего Маратту, «Портрет папы Климента IX», намного превосходящий римское полотно. Гость начал придираться, морщился с видом искушенного знатока. В коллекции Волси-Бёрнсов имелись «Сикст V» Факкетти[14] и «Бенедикт XIV» Креспи[15], оба должным образом сертифицированные. Конечно, это не совсем Маратта, признал Борис, которого все это начинало раздражать. Дэннис Махон и Мина Грегори не торопились выносить свой вердикт, а вот Стелла Рудольф после нескольких лет исследований подтвердила его авторство. Однако ни авторитет госпожи Рудольф, ни великолепие самого холста не убедили гостя, который сначала всячески ругал картину, выказывая при этом познания на уровне иллюстрированного журнала для дантистов, а затем предложил снизить цену. Борис же в свое время задорого купил это полотно, поскольку верил в него, и какие-то придирки не могли поколебать его уверенность. А потому мой дядя выпроводил этого шута горохового, хотя тот и сопротивлялся, требуя показать ему другие полотна, и настолько был задет отказом, что пообещал вернуться еще. Это произошло во вторник, две недели назад. Вот и вся история. Неудивительно, что этот скряга больше не появился: за это время он успел переселиться из отеля в морг. Борис снова рассмеялся, специально для Альвизе, которому было не до смеха. Хорошо еще, что этот зануда не уловил всей ценности Маратты: как бы он сейчас, с перерезанным горлом, расплатился за картину, которую Борис, руководствуясь своим обычным чутьем, уже отправил бы в Лондон? Перестав смеяться, дядя пригласил нас к столу, куда Игорь уже носил дымящиеся мисочки, по десять штук за один раз, разместив их на предплечьях, от локтя до запястья. Это встревожило мою невестку, испугавшуюся, как бы ее драгоценный Виви, лежавший в своем «коконе» посреди стола, куда водрузил его в качестве украшения Борис, не ошпарился. Мы торжественно уселись за стол, усилием воли прекратив разговоры о вещах, которые могут испортить аппетит или нарушить праздничную атмосферу. Это был ужин в честь Кьяры, и мы говорили о Кьяре, о работе Кьяры, о дне рождения Кьяры, о младенце Кьяры. Но тут в центре стола раздался плач. Дядюшка предложил успокоить Виви, сунув в его разинутый рот кусочек баранины под соусом карри, на что Кьяра завизжала, что мы хотим убить ребенка. Тогда Игорь с видом знатока заявил, что, судя по мощным легким, Виви будет, скорее всего, похож на свою мать.
Кьяра потребовала пояснить, о какой именно матери он говорит: о настоящей, этой погибшей девчонке, или о ней самой, которой с самого начала вечера все дают понять, насколько она и ее ребенок тут лишние — инородные тела на усохшем генеалогическом древе. И какие Кампана все же эгоисты: им даже крик младенца невмоготу! Неужели они думают, что их картины, клиенты, мертвецы и убийцы лучше ее малыша?
Игорь пояснил, что он всего лишь позволил себе сравнить энергичность Кьяры и Виви. Атмосфера накалилась еще больше, когда он добавил, что Виви не приходится сыном никому из присутствующих в комнате. Он — ребенок бедной умершей женщины и бедного безвестного отца, никому не ведомый потомок бедняков, живших в неведомой нищей стране. Предпочтя слову дело, Альвизе вынул крикуна из «кокона» под суровым взглядом жены: психотерапевт всегда ищет в чужих словах скрытый смысл, которого там нет. Борис тем временем предложил отведать других тандури — с цыпленком, с инжиром, а также карри из овощей, но никто на его предложение не откликнулся. Игорь воздел ладони к потолку — нет, этот вторник явно не задался с самого начала, — после чего принял Виви, которого передавали с рук на руки, стараясь успокоить.
Не тут-то было. Супругам Кампана пришлось спуститься к себе в бельэтаж и унести с собой ребенка, с которым они, похоже, не больно-то знали, что делать, — как и мы. Только тут мы заметили, что Кьяра так и не развернула свои подарки.