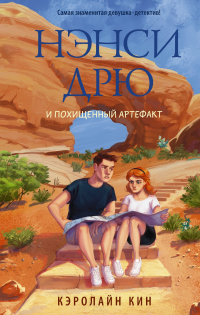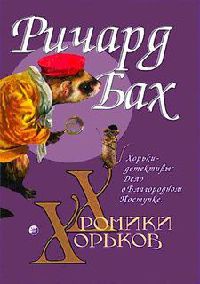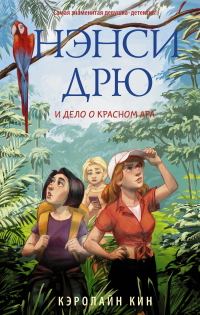— Он притягивает неприятности.
— Ему просто нужно занять руки, — объясняет Ба. — Мы делаем как лучше для него.
Я разглядываю пятна на столе и мечтаю, чтобы все было как прежде.
— Ты же понимаешь, тебе нельзя на улицу. Дальше сада не ходи, чтобы никто…
— …не увидел меня, — завершаю дедушкину мысль.
Он переводит взгляд с меня на бабулю и обратно.
— Вы прячете меня, — говорю, вытягивая руку. Тоска перерастает в злость. Это чувство переносить куда легче, и я бросаю вожжи. — Представьте себе, я не дурак. Вы меня не выпускаете, чтобы никто меня не заметил.
Потому что иначе мне придется пойти в школу и в «Дойчес юнгфольк». Таковы правила.
Дед со вздохом поднимается, идет к окну и выглядывает наружу.
— Карл, — говорит он, — если кто-нибудь донесет, что ты здесь, или тебя заметит не тот человек, мы все попадем в беду.
— Так отправьте меня в школу. — На душе становится все хуже и гаже. Руки трясутся. Чтобы унять дрожь, сую их под мышки. Не знаю, что делать и как повлиять на ситуацию. Злость и раздражение захлестывают меня с головой, и мне физически необходимо выплеснуть их. Встав, упираюсь взглядом в бабулю. — А может, мне самому на вас донести? Вот возьму и пойду прямиком в гестапо…
Я замолкаю. Ба в ужасе. Глаза у нее вот-вот выпадут из орбит, а рот похож на громадную букву «О».
— Прекрати! — Дед разворачивается ко мне. Лицо у него темнее грозовой тучи. Впервые вижу его таким. По кухне будто пролетает разряд. Лишь переведя дух и успокоившись, дед продолжает: — Дай нам пару дней. Тебе нужно время оплакать отца. Потом вернемся к этому разговору. А пока сходи, проверь, как там мама.
У меня просто нет слов. Вскакиваю, оттолкнув стул.
— Ладно, — говорю и выбегаю из кухни. Лестница скрипит под ногами.
Побег
Я сижу на краю кровати, но мама даже не открывает глаз.
Она ни разу не вышла из комнаты, будто не хочет больше жить. Мне иногда кажется, что зря мы переехали на Эшерштрассе. Дома она бы не спала целыми днями, потому что ей пришлось бы заботиться обо мне и Стефане, а я был бы среди друзей.
Я смотрю на маму, и раздражение после разговора с Ба и дедом потихоньку тает. Может быть, мама не смотрит на меня, потому что я напоминаю ей папу. Мне всегда говорили, что у меня его глаза и нос. И улыбка.
Со своего места вижу в окошке здания напротив. Двухэтажные домишки из красного кирпича, один в один как наш, стоят группами по три. Мы живем на углу, где от Эшерштрассе отходит узкая дорожка на параллельную улицу.
В среднем доме напротив окна украшены ящиками для цветов, прямо как у нас. Только Ба сажает красную герань, а там пусто. Вроде бы в прошлом году дом стоял безлюдным. А сейчас оттуда выходит тетенька, высокая, белокурая, в простом голубом платье и белом переднике. Смотрит налево, направо, а потом кричит в двери.
И через миг на улицу выходит девчонка. У нее велик, такой же, как у нас со Стефаном, черный, с сиденьем из коричневой кожи. Девчонка миленькая, но темные глаза и волосы делают ее похожей на недочеловека, полукровку, у которого в роду были евреи. По возрасту она моя ровесница и одета в школьную форму.
Подхожу к окну и смотрю вниз. Как бы мне хотелось пойти с ней в школу. Тут она поднимает взгляд и замечает меня.
Наши глаза встречаются.
Девчонка улыбается и машет мне.
Отпрыгиваю от окна, будто меня застали за неподобающим, и в голове появляются паршивые мысли. Вдруг она донесет, что видела меня. Сообщит в гестапо. А потом они придут и арестуют меня за то, что не хожу в школу, и поеду я в лагерь, закованный в наручники.
Сглотнув комок, гоню дурацкие мысли прочь. Прижимаюсь носом к стеклу и выглядываю наружу.
Девчонка на велике уезжает по улице направо. Ее матушка стоит в дверях и провожает дочку взглядом. Фигура, исчезающая вдалеке, вызывает желание прокатиться. Я четыре дня не выходил на улицу, разве что во двор, где никто не увидит, помочь деду с машиной.
Девчонка давно уехала, ее мама закрыла дверь, а я все смотрю на Эшерштрассе. Улица будто вымерла. Как не похоже на родной дом, где снаружи всегда царит суета. В городе ездят машины, трамваи, телеги, люди ходят туда-сюда, а здесь пусто.
Жду добрых десять минут, отсчитывая в уме по шестьдесят, но за окном не мелькает ни единой машины.
Ни единой. Взгляд цепляется разве что за старика, выгуливающего собаку.
— Как же скучно, — бурчу себе под нос, пристраиваясь на краю маминой кровати. — Вообще нечего делать.
Но девчонка на велике подбросила мне идею.
Внизу Ба делает хлеб. По кухне разливается запах теста.
— Прости за грубые слова. Я не хотел…
— Все в порядке, — улыбается Ба. — Лучше помоги мне, это интересное занятие.
— Готовить? Снова?
— Не готовить, а печь. — Она месит тесто, вылезающее между пальцами. — Хорошее дело, стоит научиться.
— Девчачья забава, — объясняю, будто она сама не в курсе. — Парни не готовят.
— Ой ли? Парни не готовят? Так учат в школе в нынешнее время? — Оставив тесто в покое, Ба смотрит на меня. — Поведай-ка, а чем занимаются парни?
— В школе? Ну, мы изучаем математику, науки всякие и как воевать с врагами.
— Вот оно что. — Ба хмурит брови.
— А еще мы учим, как делать оружие, траектории, и расовую теорию. И бокс, и бег, чтобы мы были сильными.
— А дед, по-твоему, не сильный?
— Да, но…
— Иногда он помогает мне готовить. Будешь теперь считать его слабаком?
— Есть разница. Молодежь — это будущее, поэтому мы должны быть сильнее. Быстрыми, как тигры, крепкими, как сапоги, и надежными, как крупповская сталь.
Ба, отвернувшись, бросает на стол пригоршню муки.
— Это слова фюрера, — говорит она.
— Именно.
Ба поднимает ком теста и швыряет на стол. Взметаются облачка муки.
— А девчонки учатся готовить? — хмурится она. Руки ее прямо впиваются в тесто.
— Ага. И конечно, быть примерными женами и матерями.
— Ясно. — Прекратив мучить тесто, Ба меряет меня взглядом. На лице у нее проступает грустная улыбка. Бабуля подходит ко мне и, вытерев руки о передник, гладит меня по щеке. — Знаешь, Карл, тебе не обязательно все время ходить в форме.
— Она мне нравится.
— Иногда одежду надо стирать. А для этого ее придется снять.
— Если постирать с вечера, к утру просохнет.