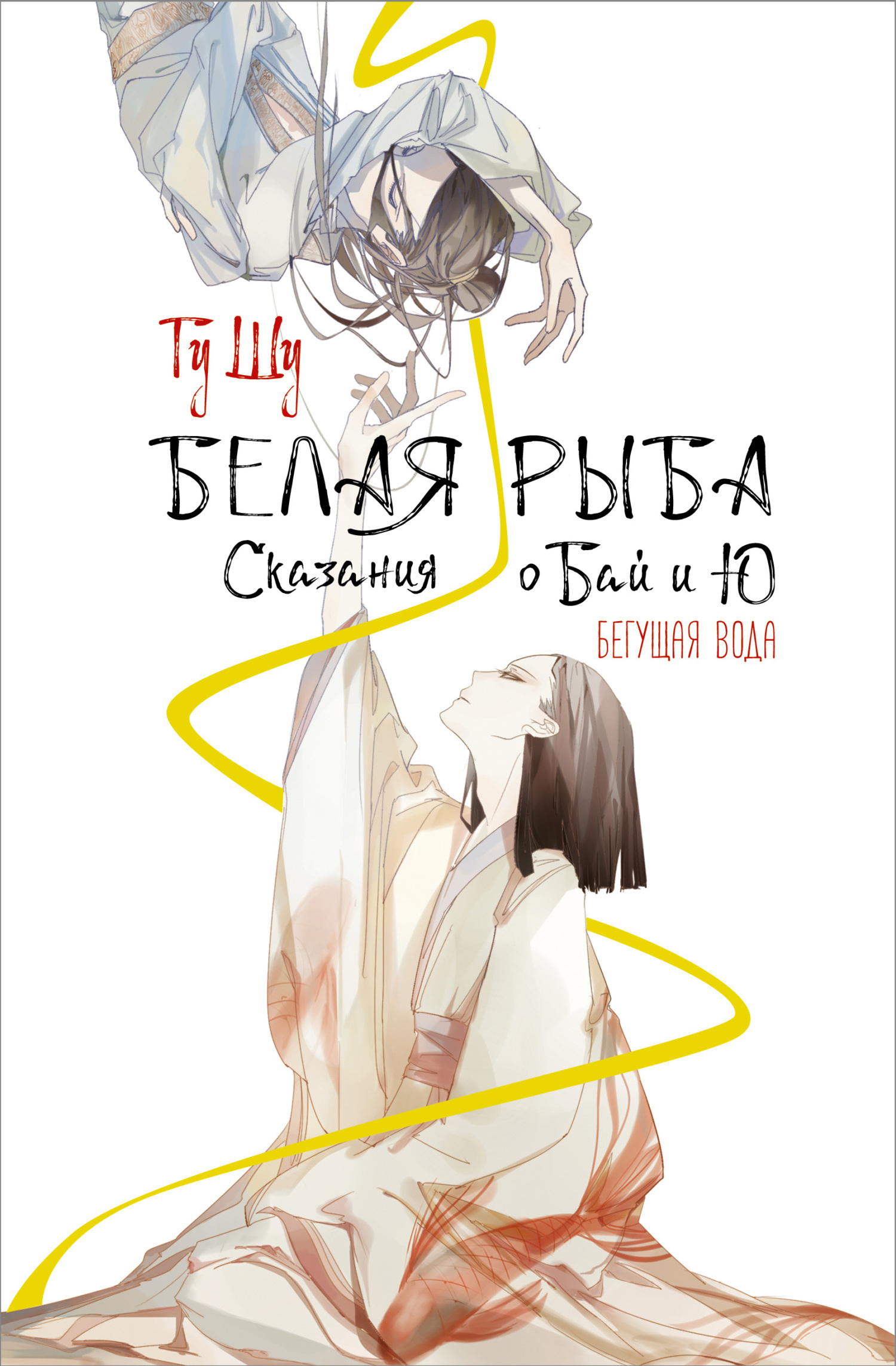хотя Ёрш не называл себя и не рвался участвовать в забаве, стоял в стороне, глядя исподлобья.
Завид с вопросом посмотрел на хозяина, и тот прикрикнул:
— Ну, пёсья душа! Покажь, кому сказал!
Волк протянул лапу, указывая. Народ оживился.
— Ишь ты, запомнил!
— Да волки-то, вишь, памятливые. Небось и обиду запомнил, вона как зыркнул!
— Добро, не понял, что мы утопить его хотели…
— А, может, и понял!
— Дурни вы, это ж зверь, что он может понять? Это ему хозяин, значит, через цепь сообщает, на кого лапой казать. Он её так-то покачивает, волк в ту сторону и глядит…
— А! — воскликнул Радим. — Не верите? Ну, ежели есть кто крепкий да смелый, так подойди, возьми цепь!
— Так ты небось ему голосом знак подашь…
— Что ж, и вовсе молчать буду, даже и отойду, сами спрашивайте!
Народ, конечно, заинтересовался. Сразу несколько смельчаков вызвались держать цепь, потянули соломины, выбрали одного. Радима оттеснили, взялись спрашивать волка, перекрикивая друг друга. Он, понятно, запутался, не зная, кого слушать.
— Видно, обман! — разочарованно загудели люди. — Без хозяйской-то помощи волк ничего не может!
— Так вы все разом верещите, остолопы — ну, ясно, зверь ничё не разберёт! — вмешался тот мужик, похожий на медведя, Добряк. — Тут и я, вона, ничё не пойму, что уж об волке-то говорить. Пущай кто один спрашивает.
Его послушали, и дело пошло на лад.
Народ развеселился. Волк уже запомнил каждого по имени, каждого показал.
— А ну, кто медовуху без меры хлебать любит? — спрашивают его.
Он отыскивает кого-то с кружкой, указывает. Народ гогочет…
— А кто пожрать не дурак, особливо на дармовщинку?
Указал на Радима. Тот так и так сердится, пусть хоть народ посмеётся. Может, от доброты и кусок бросят.
Не бросают. Смеются, а не бросают…
Волк уже и станцевал, и мячом с людьми перебрасывался — нет, и хлебной корки не дали. Да ещё кто-то нарочно метил то в нос, то в бок. Если не ждёшь подвоха, больно. Завид даже взвизгнул раз или два, и того, кто бросал, укорили, да что ж! — сказал, что вреда не хотел, да силу не рассчитал, и какой с него спрос?
Наконец Радим понял, что люди, пожалуй, решили смотреть на потеху даром. Может, сочли, староста уж за всех уплатил. Тогда, сорвав с головы шапку, он сунул её волку в зубы и жестом велел обходить народ, да лучше по-хитрому, на задних лапах.
— Да кланяйся, благодари добрых людей! — приказал.
Добрые люди даже попятились, а кто-то по-тихому и отошёл. Известно, забаву любит всяк — набегут, рты разинут, а скажи им платить, так скажут, будто и не за что. Может, волк и сам потешился, разве же это работа! Хозяин и вовсе стоял в стороне, а теперь, ишь ты, о плате заикается.
Если бы цепь держал Радим, может, вышло бы иначе, но Завида всё ещё вёл один из мужиков. Теперь он подтолкнул его вперёд, к кому-то, кто, по его разумению, должен был расщедриться.
— Ты, вона, дальше иди, — негромко сказал тот, отводя глаза.
Чья-то рука бросила в шапку мелкую монетку. Волк поднялся, поклонился и зашагал по-человечьи, удерживая шапку в зубах и стараясь не допустить, чтобы цепь натянулась. А когда поравнялся с Ершом, тот со всего маху встал ему на лапу. Давил всем весом, надеясь искалечить, и никто не заметил.
Боль, казалось, дошла до сердца. В первый миг волк застыл, сказалась выучка: крепко держать шапку, хоть бы там что… Тот, кто его вёл, ничего не понял и дёрнул цепь.
В следующий миг Завид всё-таки бросил бы шапку и заскулил, но вышло иначе. Цепь дёрнули опять, вот тут-то и лопнул ошейник. Волка отбросило назад. Испуганные люди тут же подняли крик:
— Напал, напал! На Ерша напал, спасайте!
Волк завертелся. Люди стояли плотно, не ускользнуть, вроде отшатнулись, но тут же опять сомкнули ряды. Кто-то взмахнул коромыслом, он увернулся, и что-то страшно ударило по спине. Волк понял не сразу, что то была его собственная цепь.
Ему показалось, отнялись задние лапы, и тут же сапог ударил по рёбрам. Он пополз, крича от боли, почти ничего уже не понимая, но голос его был не слышен среди тревожных и гневных воплей. Что-то кричал и Радим.
Чей-то сапог метил в зубы, но исчез, будто человека оттолкнули. Волк проскользнул вперёд, почти выбрался, но мир почернел, а потом появился опять, опрокинутый набок. Звуки стали тихими. Волк забарахтался, пытаясь нащупать лапами землю. У головы его лежал разбитый горшок, белым пятном растеклась сметана.
Взметнулась цепь. Волк запрокинул голову, и удар пришёлся по лапам. Только теперь он не чувствовал боли, не чувствовал лап, ничего не знал, кроме одного: бежать.
Взглядом он зацепился за лес и больше ничего не видел, кроме леса.
Он ни о чём не думал, пока бежал, и ничего не слышал, кроме глухого шума, похожего на далёкую песню жаворонков.
Он не знал, как ушёл. Может, и не ушёл. Может, ещё найдут, пустят псов по следу, но теперь он лежит на сырой земле, на тощей жёлтой подстилке берёзовых листьев, и синее небо стоит над ним в просветах голых ветвей. На листьях алые капли.
Страшно больно, больно даже дышать. Может, найдут, но если времени хватит, он умрёт свободным. Пусть же ему повезёт.
Поёт, поёт одинокая птица. Тихо, ни ветерка. Золото и лазурь.
Добрый день.
Глава 3
Волк спит и видит чёрный сон. Хороший, спокойный сон: в нём тихо, темно и пусто.
Боль возвращается с криком потревоженной птицы, с осенним ночным холодом. Густая роса ложится на землю, на палые листья, на чёрную волчью шкуру. Волк поскуливает.
Глухая ночь. Вровень с макушками сосен бредёт лесной хозяин, покачивает стволы, поскрипывает ветвями. Склоняется над волком, и дыхание его летит ветром, посвистывает в подлеске.
Спи, волк! Уснёшь — и проснёшься травой по весне, пухом в птичьих гнёздах да в мышиных норах. Хлопотливые муравьи заберут, что останется. Жизнь бесконечна. Спи!
Он засыпает опять…
Он уснул бы совсем, и вышло бы так, как нашёптывал леший, да только его разбудили. Чей-то голос во сне всё звал, а он и не понял сразу, что это его зовут.
— Волчок! Просыпайся, волчок! Слышишь?
Он пошёл на голос и вышел из черноты.
Поморгал воспалёнными глазами, стряхивая пелену, которой подёрнулся мир, и увидел вчерашнюю девку. Она сидела рядом, но так, чтобы он не достал, и осторожно тянулась рукой.
Он зарычал.
Ему было больно и плохо, так плохо, что