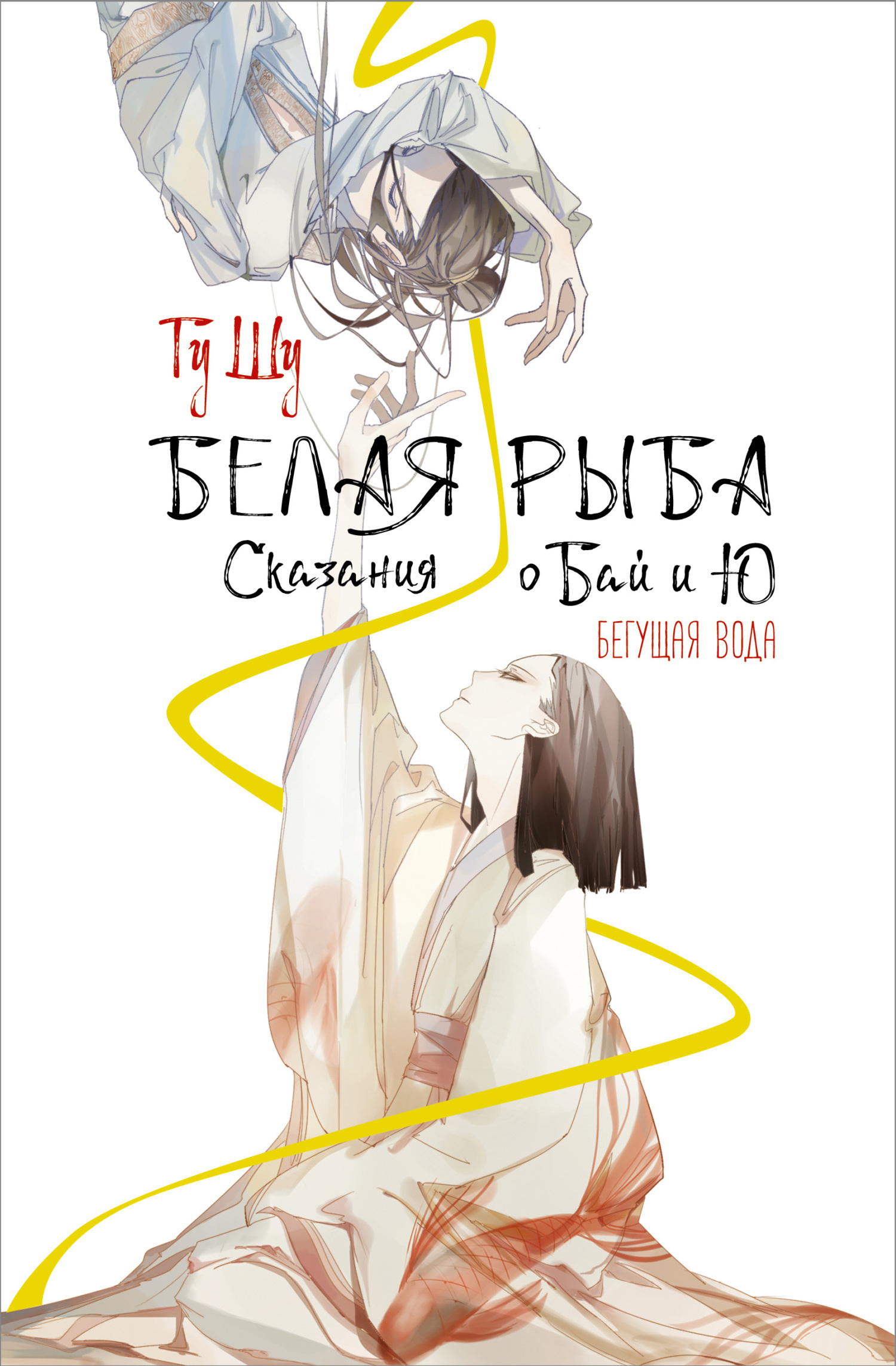и не заметил, спиной стоял, и чего народ посмеиваться начал, не понял.
Тут и девка вышла, тёмные брови хмуря. Всё же не убежала.
— Как на зверя, на цепь посаженного, с палкой идти, так ты, Божко, первый смельчак, скор ты и на оговор. А правду говорить не спешишь, на это у тебя смелости не достало! Ежели сам не можешь, так я скажу, ведь я-то видела, как вы втроём его мучить пришли! Вы его не пожалели, а как ты ему в зубы попался, он тебя пожалел. Зверь-то добрее тебя, выходит.
Зашумел народ, теперь уже об ином. Засомневались. Грех на душу едва не взяли напрасно, и хотя все были хороши, а только кому по нраву в таком сознаваться? Ясно, стали искать виновного. Божко под взглядами завертелся, как на сковороде, и отец его, смекнув, что дело неладно, заголосил:
— Чего это мы девку слушаем? Её слово против его слова, а девки, знамо дело, лукавые, правды не скажут…
Тут мужик, на медведя похожий, к нему шагнул, сгрёб за ворот. Сам хотя и ниже, а нагнуться заставил и в лицо закричал тонким, сорванным голосом, слюной брызгая:
— Ты, Ёрш, паскуда, на кого рот поганый разинул? Сам напраслину возводить горазд, и щенка таким же растишь! Дочь моя не брешет, в отличие от всяких тут!
Не убежала, подумал Завид, и внутри у него потеплело. Не убежала, отца позвала…
Тут из толпы выбралась баба и такой подняла крик, что хоть и уши заткни, всё одно услышишь. В стольном граде Завид однажды слыхал, как гудят ратные трубы, но эта баба, пожалуй, и их бы перекричала. Девке она, по всему, приходилась матерью и теперь сочла, что дела без неё решить не смогут.
Досталось всем: и лиходеям, которые из сыновей не справных мужей растят, а таких же нелюдей, и прочему народу, который горазд зенки пялить, а как трое мало не у всех на глазах девке косу рвут, не увидали.
Досталось и дочери. Та небось уже и пожалела, бедная, что вышла. Стояла теперь, глаза опустив, с красным от стыда лицом, пока мать ей выговаривала за то, что не в свои дела лезет — ну, кликнула бы народ, а самой-то на рожон чего переть? Вот уж беда, ежели ума недостало! И руки показать заставила: на них следы чужих пальцев багровели.
Уводили девку за ухо, и она, губы стиснув, шла с безрадостным лицом. Видно, несладко ей придётся, не раз ещё подумает, что зря вступилась за зверя.
А Божка решили высечь хворостиной, чтобы неповадно было. Дружки его давно убежали да где-то схоронились, а он вопил, что это всё они придумали, с них и спрашивать нужно. Только к волку-то он сам полез, и палку все видели, да и лгать его никто не вынуждал.
К Радиму подошёл, должно быть, местный староста, что-то сунул в руку и сказал негромко, склонясь к уху:
— За беспокойство… А ныне ехал бы ты, человек добрый, потому как нам уж не до веселия…
Завид был согласен, что лучше бы ехать. Сколько-то получили, шкуры сберегли, и ладно. Да и Ёрш, отец Божка, смотрел нехорошо, совсем нехорошо. Такой мог собрать мужиков, да и встретить позже на дороге, учинить свой суд.
Но волка никто не спрашивал. Радим, подслеповатый, да к тому же жадный, решил иначе.
— Врешь! — пробормотал он, пряча добычу в карман на поясе. — Люди отходчивы, будет и веселие. А мы подождём.
И, поглядев на волка угрюмо, прибавил:
— А тебя уж я поучу, пёсий сын. Из-за тебя все беды. Давно нам по-крупному не выпадало поработать, я уж думал, разживёмся монетой, а ты этакое выкинул! Ну, гляди ж: хорошо себя покажешь — так и быть, прощу, а не будешь стараться — пеняй на себя!
Только не первый год вместе ходят. Завид уже знает: хоть из шкуры выпрыгни, но уж если хозяин решил наказать, он накажет. Пусть даже и полный карман набьёт, всё одно не смягчится.
Они ждут. Радим жуёт пироги, стряхивая крошки с бороды. Волку ничего не достаётся, ещё не заслужил. Только и позволено, что втягивать ноздрями запах да угадывать, с рыбой пирог или с чем другим. Да и с тем не стоит усердствовать, а то на Радима найдёт, обругает зверем несытым, а после нарочно кормить не станет.
Ветер несёт запахи молока и сливок, и калачей, и жареной рыбы, и яблок. Алеет ягода клюква — только от вида слюной наполняется рот. Пахнет грибами, Завид бы их ел и сырыми, пахнет капустой и репой с маслом и луком…
Отвернувшись от ветра, волк укрывает нос лапой. Может, как будет плясать, ему кинут кусок, и хорошо бы успеть схватить. Радим когда позволит взять подачку, а когда и затопчет ногой, рванув цепь, зарычит недовольно:
— Не балуй!.. Неча ему приучаться жрать из чужих рук… Ежели харчей не жалко, так мне оставьте, я ему после дам.
Народ глядит на пузатого Радима и на тощего волка, посмеивается:
— Да уж ты дашь…
Радим гневается. Людям не покажет, посмеётся со всеми, а только волку отольётся слезами тот смех.
Но у Радима теперь в глазах туман. Может, удастся перехватить кусок раньше, чем он заметит. Иного угощения, надо думать, волку сегодня не видать.
Они ждут, и торг, притихший было, опять начинает шуметь. Всяк опять нахваливает свой товар, и люд смеётся, вот уже в стороне завели и хоровод. Мелькают юбки, алые, жёлтые, полосатые, летят ленты, будто венок из последних цветов плетут на скошенном лугу. Мужики готовятся биться стенка на стенку, и тот, на медведя похожий, держится чуть в стороне: видно, будет судить.
Дождавшись, как народ натешится этими забавами, Радим отпирает клетку и наматывает цепь на кулак.
Не сказать чтобы их представления ждали. Подошли, конечно, обступили, а только с такими лицами, что Радим, если бы видел, теперь собрался бы да уехал. Он, видно, и сам почуял что-то недоброе в наступившем молчании.
Что же, бывало всякое. Бывало, перед тем, как приходил Радим, являлись какие-то плясуны, да пока отвлекали народ, их дружки тащили чужое добро. На Радима с волком, ясно, после такого тоже смотрели с подозрением. Радим всегда повторял, что лучше работать под косыми взглядами, чем удирать, поджавши хвост. Убежишь — поверят, что совесть нечиста.
Волк исполнил самое простое: сел, лёг, притворился убитым, подал лапу. После Радим спросил имена и велел волку указывать. Тот подошёл к одному, второму.
— А ну, покажи теперь Ерша! — сказал Радим,