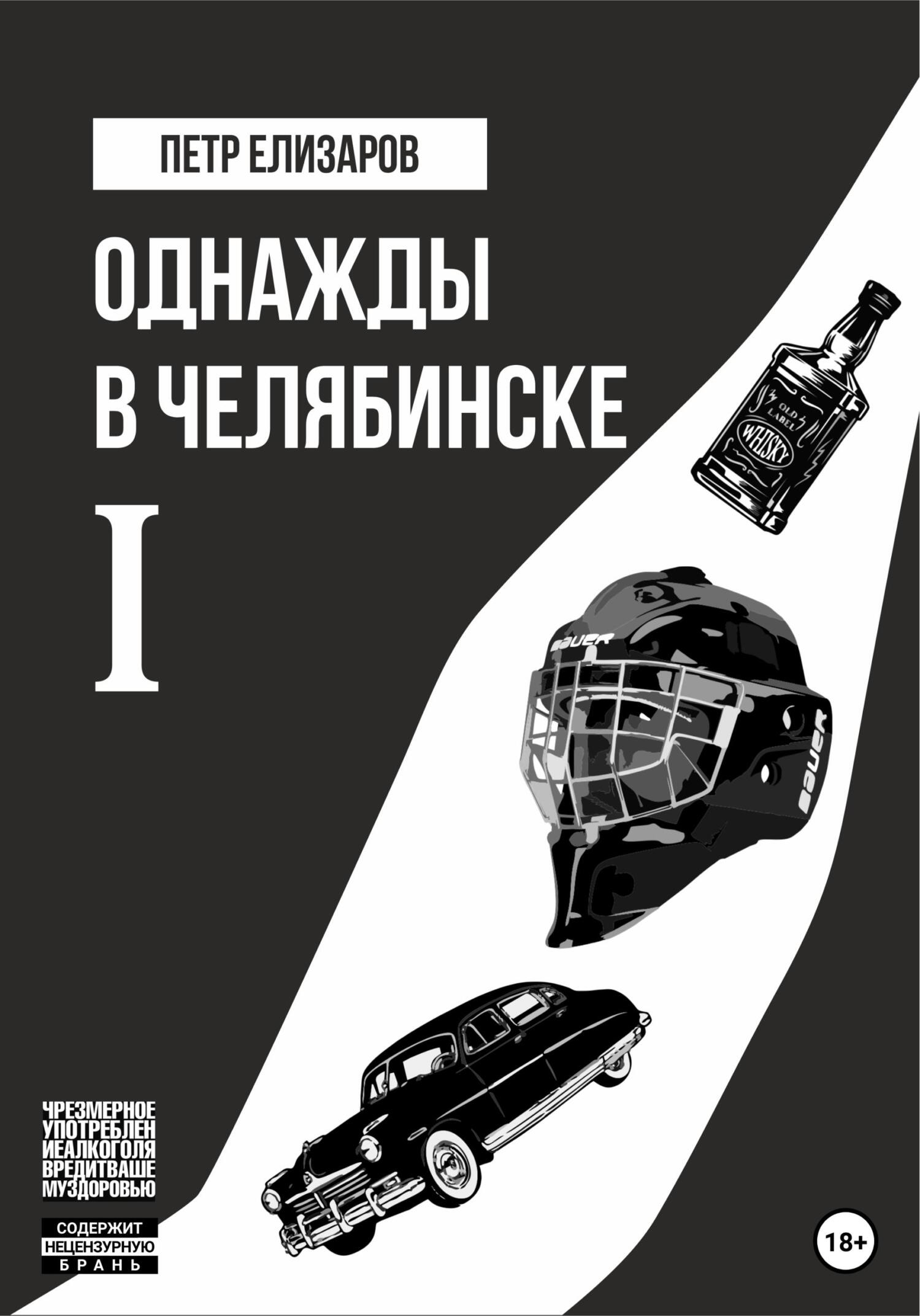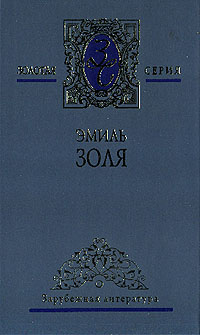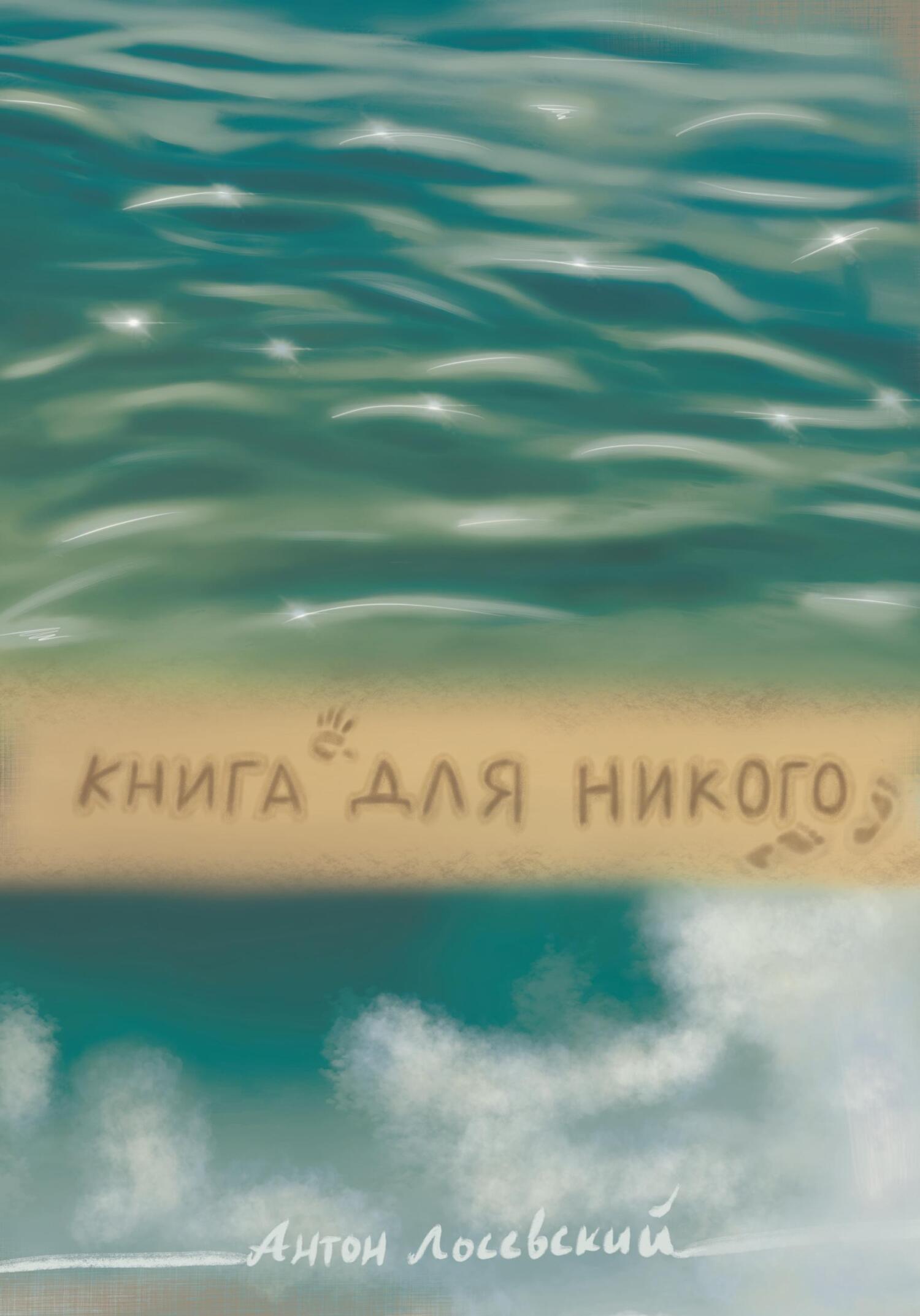женщина, несмотря на то что ее природа была лишена всякого актерства.
Она отвертывалась от взгляда извозчика, а тот – любопытствующий и потный, с маленькой головкой, посаженной без посредства шеи прямо на огромные тяжеловозные плечи, – проникся к ней явным расположением и желал быть причастным к ее радости, а тогда она отвернулась не только от него, но и от Петра Корнилова, сделав в его сторону жест: я больше не могу...
И Корнилов проследил за этим жестом, за всем тем, что вслед произошло, – за тем, как резко женщина откинула голову назад; за тем, как торопливо, почти судорожно она стала прижимать свою руку, исполнившую этот жест, к себе самой, словно бы закрывая какую-то рану чуть пониже сердца.
Она замерла под тонким слоем маркизета своей кофточки, слишком тонкого и прозрачного при нынешнем все пронизывающем солнце и при всем том, что сейчас с нею происходило, и стала походить на огромного, но совершенно беспомощного птенца, прикрывающего себя неоперенным крылом. Она не знала, нужно ли ей сейчас ехать, нужно ли приехать в свой дом, в свой угол в доме № 137 по улице Локтевской, но приехала туда, и вдруг полегчавший, по-мальчишески быстрый извозчик внес в ее каморку немудрящие пожитки Корнилова.
Было сухо и знойно, но извозчик все равно умудрился наследить на чистых половицах дома влажными буровато-черными следами, а явное расположение к своим пассажирам ничуть не смутило его, и он спросил четыре с половиной миллиона рублей: пассажиры ведь не торговались, усаживаясь в его телегу на привокзальной площади.
Женщина торопливо расстегнула кошелек, который едва вмещал купюры и который стал совершенно пуст при расчете; извозчик еще и заглянул в эту пустоту: «А кто тебя доставил к твоему месту, мадам? Кто?» – и в доме наступила окончательная и как бы вечная тишина.
Из внешнего мира сюда, в крохотную комнатку с бумажной занавеской на окне, поступал только один звук – удары колокола Богородской церкви, расположенной рядом.
Звон был похоронным.
Он был таким изо дня в день – в городе обитала холера, город эшелон за эшелоном принимал голодающих и больных беженцев.
«Это невероятно, это ужасно, как мы, люди, знаем друг друга,— подумал Петр Корнилов, прислонившись к дверному косяку.— Ну откуда, ну зачем я понимаю, я знаю больше, чем самого себя, эту женщину? В себе, в своих собственных поступках, в своей игре и фарсе я все-таки сомневаюсь; сомневаюсь в своем душевном состоянии, не могу его ни определить, ни назвать; в ее муках милосердия, в муках спасительницы у меня нет и даже не может быть ни капли сомнений! И вот я знаю все, что происходит сейчас в этой женщине. И вообще зачем я знаю тысячи других людей – друзей и врагов, мужчин и женщин, бывших сослуживцев, соучеников, спутников, встречных и поперечных, калек и богатырей, слуг, господ, подчиненных, начальников, живых, мертвых, ученых, политиков и писателей, которых я никогда не видел, людей, живших тысячи лет назад и не живших никогда, кроме как на страницах книг? Зачем все они мне, эти тысячи, эти полки, колонны, толпы живых и мертвых? Только человек, а больше ни один другой предмет этого мира, способен в такой же невероятной численности удержаться в моей памяти, так что сама память не в силах установить, сколько же людей она удерживает в себе!
Зачем? Для чего? Зачем мне все эти чужие жизни, прильнувшие ко мне, сопровождающие меня повсюду? Зачем мы друг другу? Для того, чтобы жизнерадостно, жизнелюбиво, жизнеутверждающе друг друга уничтожать? Ведь из этого всеобщего знания никогда еще не возникало единения, а разобщение всегда. И, зная этот финал, предвидя разобщение, я все равно жду и требую общения, перешагивая через свою собственную безошибочную догадку!»
И Корнилов в самом деле перешагнул.
Двумя шагами. Одним – подлиннее, другим – чуть покороче он приблизился к женщине, сидевшей в углу узкой деревянной койки. Приблизился, положил ей на плечи руки.
— Женя?!
Нынче он уже знал это имя. Имя и отчество: Евгения Владимировна.
Евгения Владимировна отшатнулась, закрыла лицо руками. Прошептала:
— Боже мой, боже мой! Как я вас ненавижу!
— Почему? – спросил Корнилов, спросил нелепо и глупо.— Почему вы ненавидите меня? Не надо меня ненавидеть! – Он не ждал никакого ответа, но Евгения Владимировна вдруг стала ему отвечать:
— Поймите, мне ничего не надо, ничего на свете, только мой паек фельдшерицы и мой угол в этом доме, а больше ничего никогда! Но вы страшный человек, преступный человек, вы заставите меня желать чего-нибудь. Вы не можете не заставить. И это ужасно! Ужасно желать, чтобы вы умерли как можно скорее. Или чтобы обязательно заболели! Слушайте, пока еще не поздно, заболейте сыпняком! Боже мой, сколько людей умерло у меня на руках от сыпняка, а сама я почему-то не умираю! Ну, а тогда заболейте вы! Заболейте и умрите!
II. ГОД 1923-й. 3ИМА
— А я вот как предлагаю: после двух-то часов с половиной нашего собрания я предлагаю послать все к черту! Всех вас, здесь присутствующих!
Полковник поглядел вокруг. Медленно развернувшись на стуле, он оглядел всех и справа, и слева от себя, взгляд его был усталый, безразличный и злой. Лицо грубое, топором рубленное: нависший круглый лоб и тоже округлый мясистый нос, голова лысая. Но, весь грубый, он все-таки был интеллигентным полковником.
Каким образом интеллигентность в нем уживалась и угадывалась, нельзя было уяснить, но она была.
По всей вероятности, он даже изъяснялся по-французски, а по-немецки наверняка – язык противника он должен был знать обязательно.
Имел он и кое-какие светские пристрастия и, наверное, мог быть галантным кавалером, мог иметь пристрастие к музыке или к балету.
Именно потому, что он был достаточно интеллигентен, он и сдержался, не повысил голоса, не встал, не плюнул на пол и не ушел с собрания, а заставил себя повторить последнюю фразу с некоторым изменением интонаций и текста.
— Заодно,— повторил он,— послать к черту всех... нас.— Так он самого себя отредактировал и сам себе заметил, однако не совсем вслух.— Пожалуй, так лучше будет...— заметил он тихо.
Уж эта полковничья интеллигентность! Хамоватость плюс неожиданная изысканность: «Четвертое скерцо Шопена по силам одному из десяти выдающихся музыкантов – тонкость! – изумительная, знаете ли, штучка! Согласны?»
Уж эти интеллигентные полковники бывшей русской армии, немногочисленные, но заметные, лысые, шопенисто-бурбонистые, демократичные,