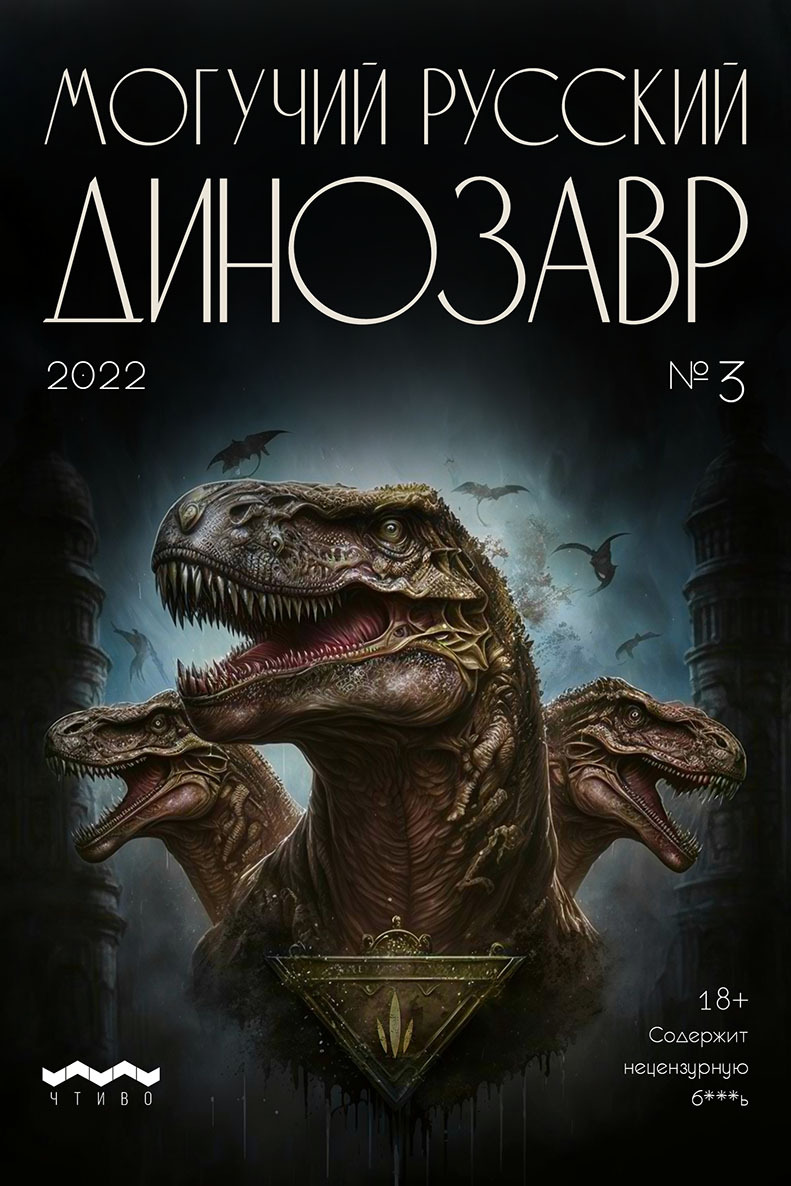высокую самоуверенность.
– Добрый день, – хрипловатым голосом произнес человек, которого назвали Мартином. – Прошу прощения за задержку. Я предполагал встретить вас в порту.
Аквилино вытер платком шею.
– Мистер Бальбоа, это управляющий дона Арманда, Мартин Сабатер.
Мартин что-то – или, скорее, кого-то – поискал глазами за моей спиной. Я протянула ему руку.
– Дон Мартин, позвольте представить вам дона Кристобаля де Бальбоа, супруга доньи Пурификасьон, – произнес Аквилино.
Мартин расправил свои крепкие плечи и энергично пожал мне руку, глядя прямо в глаза. Еще никто с такой силой не пожимал мне ладонь и не глядел в глаза так пристально. Как женщина я привыкла к легкому дружескому поцелую или бережному рукопожатию. А еще мужчины никогда не глядят так долго в глаза женщине, если только они не близки или же откровенно не флиртуют. Я намеренно усилила хватку, пытаясь сжать его руку с той же силой. Его ладонь рядом с моей казалась точно камень. Быть может, такими были руки у всех сельских мужчин? В отличие от него, у Кристобаля были руки как у пианиста, с длинными тонкими пальцами и мягкими, точно лайковые перчатки, ладонями.
Ощутив, как у меня загорелись щеки, я уже засомневалась в действенности моей маскировки, но все же выдержала его взгляд. Первой я уж точно не отведу глаза! Что-то мне подсказывало, что поддержка этого человека имеет для меня первостепенную важность. Однако, оценивающе поглядев мне в лицо, Мартин наконец выпустил мою руку, сразу, казалось бы, потеряв ко мне интерес.
– Что, донья Пурификасьон осталась ждать в порту?
– Нет, – отозвался адвокат и жестом указал на автомобиль: – Объясню лучше по дороге.
Втроем мы забрались в машину, снаружи почти такую же, как у Аквилино, только здесь был так называемый «туристический автомобиль» с двумя рядами блестящих кожаных сидений вместо одного. После путешествия на каноэ такое мягкое сиденье сулило отдых моей ноющей корме.
Мы остановились возле пирса, и Мартин с Пако погрузили в машину мой багаж. По дороге к усадьбе Аквилино поведал Мартину, что донья Пурификасьон скончалась на корабле. Я попыталась разглядеть что-либо в мгновенно посерьезневшем лице Мартина, но это оказалось невозможным. Он развернулся ко мне и высказал соболезнования, не вдаваясь в расспросы по поводу обстоятельств кончины моей «жены». Я так и не поняла: то ли это признак утаивания чего-то, то ли свидетельство безразличия.
Я старалась как можно меньше вызывать к себе внимание. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из них попристальнее всмотрелся в мои черты или начал засыпать вопросами. Точно немая, я лишь вслушивалась в периодические обмены репликами, которыми мои спутники пытались перекрыть громкий рев мотора. Они то и дело упоминали людей, мне незнакомых, но которых я наверняка скоро узнаю. Большая часть разговоров вертелась, впрочем, вокруг капризов погоды в последние пару дней и того, как это скажется на урожае. Повернувшись ко мне, Мартин пояснил, что они уже начали собирать плоды. Я легонько кивнула в ответ, как будто мне неинтересен был этот вопрос, хотя на самом деле мне не терпелось услышать все, что только известно об этом производстве.
В конце дороги на солидной ограде висела написанная от руки табличка. Мартин остановил машину, чтобы открыть ворота, и я не могла не отметить его твердую решительную походку – этот мужчина всем своим видом излучал уверенность в себе. Я опустила пониже голову, чтобы через лобовое стекло прочитать надпись на табличке… И, пораженная, перечитала еще раз:
LA PURI
Моим именем отец назвал свою асьенду[15].
* * *
Отцовский особняк – вернее сказать, дворец, ибо это было единственным словом, подходящим к представшему предо мной величественному сооружению, – оказался самым прекрасным зданием, что я только видела в своей жизни. Это было двухэтажное, выстроенное на века, монументальное строение со ставнями и балконами по всему периметру, выкрашенное в малиновый, розовый и кремовый тона. Дорические колонны вдоль широкого портика поддерживали второй этаж. С балконов свисали керамические кашпо с папоротниками и голубыми орхидеями. Пол галереи крыльца был выложен чудесной мозаикой кораллового цвета, идеально гармонирующего с цветом стен. В тени портика сидела молодая леди с фарфоровой чашечкой в одной руке и книжкой в другой.
Мартин припарковался перед домом, и оба мои спутника тут же вышли из машины. Спустя мгновение они обернулись, с недоумением глядя на меня. Я же, как дурочка, все это время сидела, ожидая, когда мне откроют дверь – просто по женской привычке! Извернувшись, я открыла себе дверцу машины сама и выбралась наружу.
Дама на крыльце носила широкую, цвета слоновой кости шляпу, тенью скрывавшую ей половину лица. Шелковое платье в жемчужных тонах было длинным, пышного покроя и очень походило на те шикарные платья, которые я видела на самых богатых покупательницах, когда-либо забредавших в мое шоколадное кафе. На плече у женщины пристроился белый какаду с длинным хвостом, как будто призванный не оставлять сомнений в демонстративности этого белого облачения хозяйки.
Подойдя к крыльцу поближе, я заметила, что у отдыхавшей там женщины глаза моего отца. Взрослея, я запоминала каждую черточку отцовского лица по портрету, стоявшему у нас на каминной полке.
Должно быть, это была одна из моих сестер.
Заметив нас, женщина поднялась, чтобы поприветствовать гостей. Какаду остался неподвижен, разве что на голове у него чуть приподнялся желтоватый хохолок.
– Здравствуйте, донья Анхелика, – приблизился к хозяйке Аквилино и поцеловал ей руку.
Она как будто была на пару лет младше меня. Фигурка ее была стройной и худощавой, с длинной лебединой шеей. В каждом ее движении чувствовалась грация – начиная с того, как она повернула голову, вглядываясь в нас (в меня в особенности), и заканчивая тем, как она протянула мне длинные тонкие пальцы, чтобы я могла поцеловать ей руку, когда Аквилино должным образом представил нас друг другу. У меня в голове не укладывалось, как столь хрупкая аристократичная особа может жить в такой сельской глуши. Ей место было в Мадриде или в Париже – но уж точно не в подобном захолустье.
Зардевшись, я поцеловала сестре руку. Это было для меня настолько неестественным жестом! Единственный, кому я когда-то в жизни целовала руку – это приходской священник (и то лишь потому, что меня заставила это сделать мать). Присматриваясь к моему лицу поближе, Анхелика чуть приподняла одну бровь. Я же надвинула пониже канотье, пытаясь максимально укрыться.
Когда Аквилино обмолвился о трагической кончине Марии Пурификасьон на море, на лбу у Анхелики пролегла морщинка.
– Какая жалость, – покачала она головой. – Я так надеялась с ней повстречаться.
Трудно было определить,