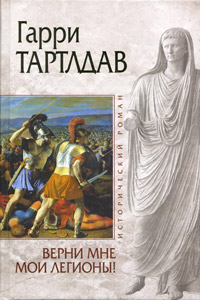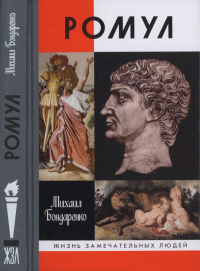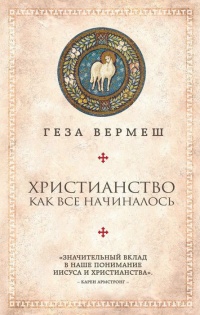швейцарская гвардия, лёгкая кавалерия и их капитаны. Под портиком Святого Петра, близ Porta-Sancta, возвышался под балдахином трон, папа воссел на него и, сопровождаемый принцами Церкви, был отнесён в собор. Ему подали тиару — венец римского государя. Она состоит из трёх корон, блистающих драгоценными каменьями, на верху её находится изображение земного шара с золотым крестом над ним — в знак всемирного могущества. Перед папой поставили крест закона с тремя поперечниками, символами его тройной власти. Церемониймейстер принёс в чаше изображение дворцов и замков из пакли, которые он поджёг, и, когда они обратились в пепел, он, указывая на него, произнёс:
— Sancte pater, sic transit gloria mundi (Святой отец, так проходит слава мира сего).
Этот урок ещё никем не был понят. Доказывали, что это тройное поклонение, следов которого не находится ни в жизни Христа, ни апостолов, и столь противное их правилам смирения лишено всякого идолопоклонства. Мы могли бы подумать, что историки видели в этом пышную формальность, если бы факты не противоречили их уверениям.
В Риме после избрания папы первая мысль всех избирателей — приготовиться к выбору его наследника. При выходе из собора можно ясно различить всех, кто мог надеяться на папство и кто давно уже отложил об этом всякое мечтание. Эти последние, уже не интригуя для себя, переодеваются, проникают всюду, подсматривают, подслушивают толки в различных классах римского общества, желая лишь узнать общественное мнение о новом папе. Первые, наоборот, сами стремясь к папству, тоже маскируются, но только нравственно; они прикрываются притворной набожностью, ложными добродетелями, желая этим способствовать своему будущему избранию.
И, действительно, папские летописи[2] всех времён свидетельствуют нам, что происки, заговоры, интриги, пронырство и увёртки всегда были в Риме вернейшими средствами достигнуть почётных должностей Церкви и взобраться на папский престол.
ГЛАВА II
ЖИДОВСКИЙ КВАРТАЛ
В один прекрасный мартовский вечер простая тростниковая таратайка в одну лошадь миновала Понтемоль и по Фламинской дороге въехала в Рим через Тополёвые ворота. Этот жалкий экипаж медленно подвигался вперёд; старый кучер с длинной бородой делал всевозможные усилия, чтоб подгонять лошадь, давно выбившуюся из сил от старости и усталости; и люди, и животное, казалось, изнемогали от долгого и утомительного путешествия; однако сквозь щели таратайки можно было подсмотреть пару живых блестящих глаз, с жадностью пожиравших все предметы, встречающиеся по дороге. Экипаж, достигнув улицы Корсо, исчез в лабиринте соседних переулков и направился на Тартарускую площадь.
Наступала ночь; после непродолжительных сумерек настала глубокая темнота. С площади таратайка покатилась между рыбным рынком и Марцельским театром, по узким и грязным переулкам и остановилась перед посредственным домом, фасад которого было почти невозможно разглядеть из-за темноты. Старик и молодая девушка вышли из экипажа, который медленно отъехал, после того как седоки обменялись несколькими словами с возницей. Старик сделал несколько тихих, но частых ударов в дверь, положение которой скорее угадал, чем увидел. Дрожащий голос изнутри произнёс несколько слов на языке со странным носовым и гортанным акцентом, старик ответил на том же наречии, и дверь отворилась, затем она была тщательно заперта, и всё вокруг стало тихо и темно, но лишь только они сделали несколько шагов вперёд, как вдруг их ослепил яркий свет и они очутились на пороге обширной комнаты.
Приём хозяев казался холоден; пришельцы поняли, что их появление не вызвало радости.
«Брат, — сказал старик с северным итальянским выговором, — я знал, что сегодня день Господень, и сделал все усилия, чтобы поспеть сюда до наступления ша́баша, но наша лошадь так устала, что не могла бежать скорее. Мы исполнили с дочерью все обряды, предписанные законом, и молили Бога снизойти к необходимости, заставившей нас путешествовать в часы, посвящённые Ему одному». Этого объяснения было совершенно достаточно, чтобы рассеять все тучи. «Брат, — прибавил старик, — продолжай чтение Священного писания и кончай молитвы, предписанные законом, только лишь после полного исполнения обрядов седьмого дня мы можем переговорить».
Горница, в которой происходил этот разговор, была гораздо больше и выше, чем можно было бы это предположить, судя по наружному виду дома. Стены были скромно обиты простой кедровой отделкой без всяких украшений и резьбы; несколько старинных прочных стульев и широкий длинный стол, покрытые богатым персидским ковром, составляли всю меблировку. С потолка над столом свисала тяжёлая серебряная лампа в несколько рожков, яркий свет которой доказывал, что она содержалась в отменном порядке; это была вещь чудной работы. На столе под лампой, вся облитая её светом, лежала большая раскрытая книга в богатом чёрном кожаном переплёте, покрытом золотым тиснением, с блестящими застёжками. Когда приезжие заняли места около стола, то всех оказалось пятеро: двое старцев, женщина также преклонного возраста, молодой человек и молодая девушка. Прерванное чтение возобновилось; все слушали с благоговением; час спустя ему положил конец ужин. Это была Библия, которую глава семейства читал в еврейском подлиннике.
Ужин, несмотря на свою умеренность, был сервирован в соседней комнате очень роскошно. Золотые и серебряные вазы и всякая посуда покрывали стол и буфет, и лампа ещё великолепнее первой освещала все эти богатства.
За ужином наступила тихая весёлость после долгого принуждённого молчания, но всё взаимно, казалось, старались воздерживаться от серьёзных разговоров и деловых или денежных вопросов.
Этот дом, наполненный дорогими вещами, но без вкуса и гармонии, так как они были собраны из различных мест и в разное время, принадлежал еврею Бен-Саулу с женой и единственным сыном Еммануилом; они принимали у себя Бен-Иакова и его дочь Ноемию, которые по настоянию их римских братьев покинули Мантую, чтобы переселиться в Рим. Эти библейские имена евреи сохраняют только между собой; в их же сношениях с христианами они носят обыкновенно другие, заимствованные по большей части от названий городов.
Когда наступило время разойтись всем на отдых, Бен-Саул встал и, предложив всем наполнить хрустальные кубки, из которых они пили, воскликнул с глубоким чувством:
— За наших братьев, которые в эту минуту, рассеянные по всему земному шару, так же, как и мы, возносят свои сердца и мысли к Богу Израиля! Да снизойдёт Его милосердие на всех Его детей.
Эти слова были произнесены с сильным, глубоким волнением. В дрожащем голосе и увядших чертах старика виднелась искренняя скорбь.
После этого прощального обряда все разошлись по своим комнатам. Ноемию провела в её комнату Сарра, жена Бен-Саула, который сам пошёл указать брату приготовленную для него спальню.
На следующий день всё время от восхода до захода солнца прошло в молитвах и