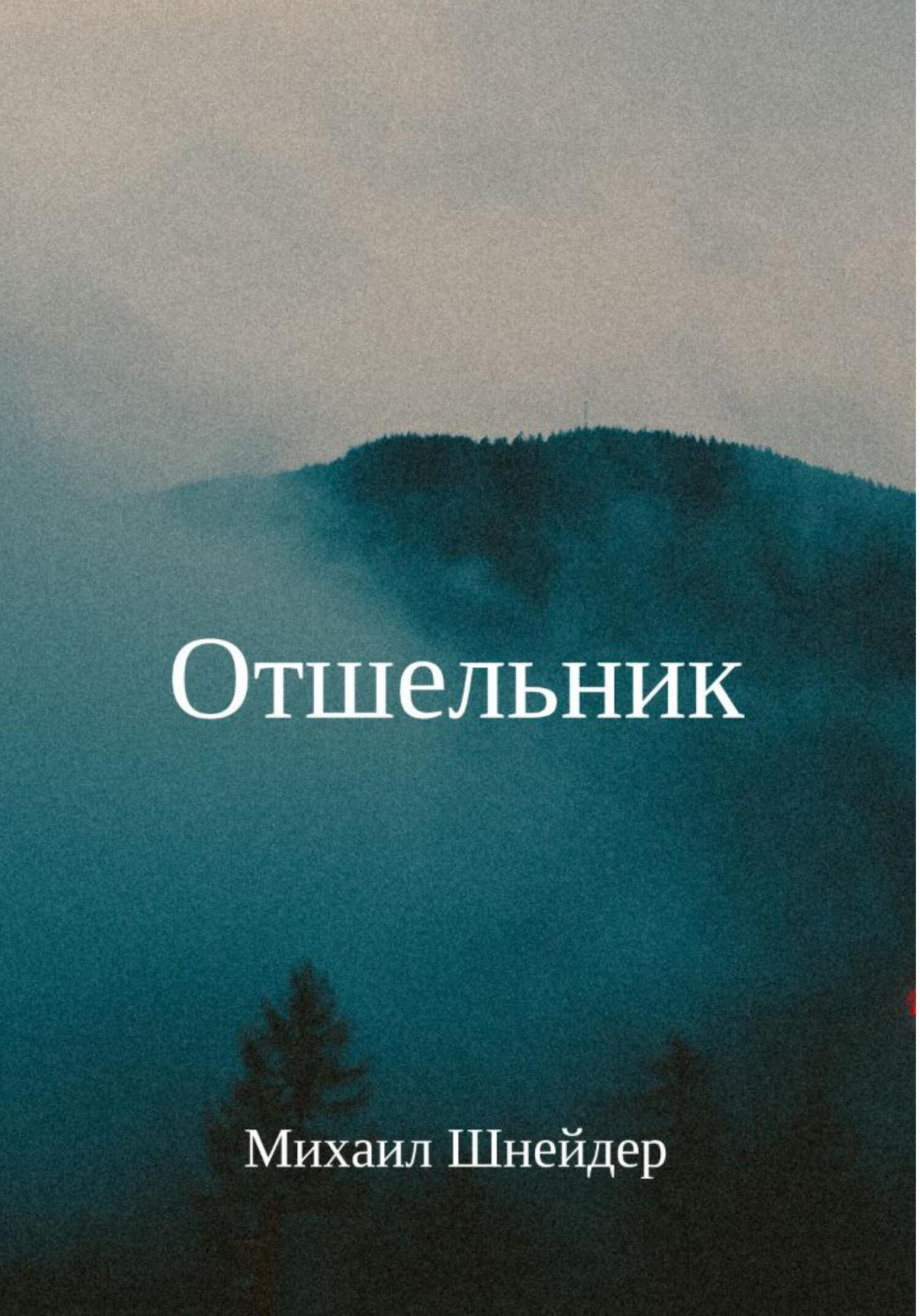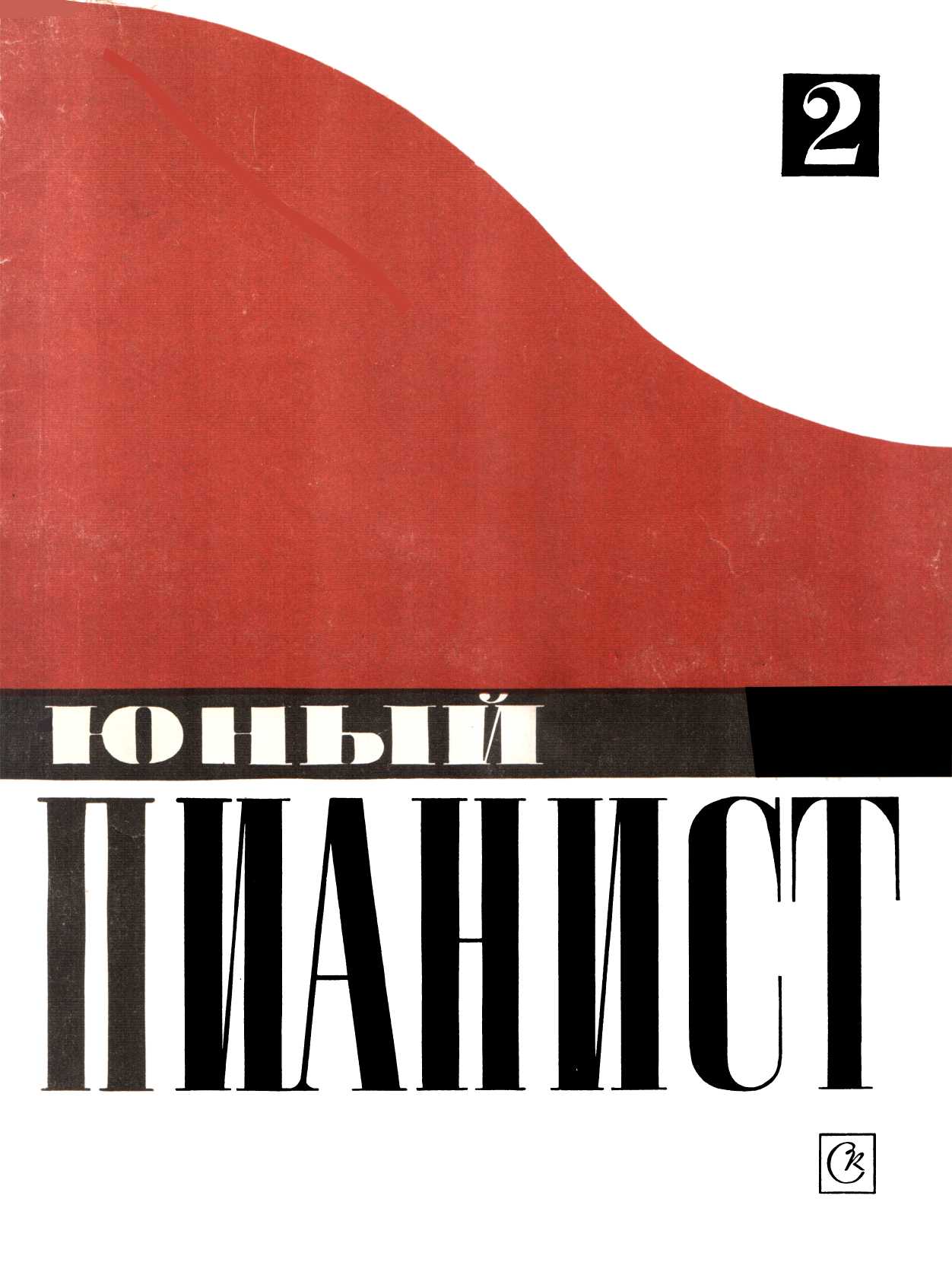правосудіе и милостивое обращеніе, а еще хорохонишься, конокрадъ ты этакій, шахаръ-махеръ могилевскій? У другаго начальника ты давно бы по этапу прогулялся. Тебя пожалѣли и мигомъ дѣло покончили, а его обезьянная рожа еще надулась. Эка важная птица какая! Маршъ въ холодную! Эй! Десятскій!
— Ваше высокородіе! За что же опять въ холодную? спросилъ струсившій бѣднякъ.
— Справки неполны… и все тутъ.
— Ваше высокородіе! завопилъ еврей, вторично убѣдившійся, что полиція хитра на выдумки: — я чувствую ваше благодѣяніе. Я благодарить хочу.
— То-то же; давно бы такъ, каналья! Сколько?
— Синюю, ваше высокородіе. Я бѣдный человѣкъ.
— Что? Шутишь?
Арестантъ досталъ между тѣмъ изъ кошелька двѣ синихъ ассигнацій и почтительно вручилъ ихъ хромому герою.
— Мало, сказалъ тихо и грустно городничій. — Ну, да Богъ съ тобою; можетъ, ты и бѣдный человѣкъ. Впредь знай, какъ обращаться съ начальствомъ. Ступай къ квартальному, получи паспортъ. Ему уже объ этомъ приказано, а ты ему все-таки дай такъ какую-нибудь мелочь. Прощай, любезный. Приведетъ Богъ еще разъ свидѣться, — поаккуратнѣе сочтемся…
Наконецъ, раби Давидъ получилъ свободу. Въ наивозможно-короткое время онъ покончилъ свои дѣла и уѣхалъ домой. Тамъ онъ узналъ объ опасномъ положеніи его любимца. Несмотря на это, онъ въ душѣ благодарилъ мудрое Провидѣніе, наславшее на отца моего тяжкую болѣзнь, которая одна спасла его отъ козней ожесточенныхъ враговъ. Раби Давидъ, съ свойственной ему энергіей, принялся за двойное спасеніе своего протеже: разумно позаботился о его содержаніи и леченіи въ больницѣ, и въ одно и то же время пустилъ въ ходъ всю хитрость, для избавленія отца отъ угрожавшей ему опасности со стороны рекрутскаго присутствія. Несмотря, однакожь, на всѣ старанія вліятельныхъ лицъ, въ томъ числѣ и начальника губерніи, принимавшихъ живое участіе въ этомъ вопіющемъ дѣлѣ, надежды раби Давида все-таки не осуществились: до такой степени приговоры общества были всесильны. Но въ такой мѣрѣ, какъ одна опасность увеличивалась, другая — уменьшалась съ каждымъ днемъ: болѣзнь разрѣшилась счастливымъ кризисомъ, и больной быстро началъ выздоравливать. Отъ этого выздоравливанія раби Давидъ приходилъ въ отчаяніе. Если несчастный больной такъ быстро будетъ продолжать оправляться, то чрезъ нѣсколько дней — не миновать ему сѣрой шинели.
Оставался единственный выходъ изъ этого положенія — достать наемщика[29]. Денегъ раби Давидъ не жалѣлъ. Возникало другія, болѣе крупныя затрудненія. Если еврей желалъ поставить за себя охотника, то этотъ охотникъ долженъ былъ бытъ непремѣнно тоже еврей, и не иначе, какъ изъ среды того же самаго общества, въ которомъ состоялъ наниматель. Раби Давидъ, однакожъ, безъ устали хлопоталъ, разослалъ факторовъ, пустилъ въ ходъ различныя тайныя пружины, и съ помощью счастливаго стеченія обстоятельствъ отъискалъ желаемое. Наемщикъ нашелся, содралъ съ нанимателя громадную сумму, и сверхъ того тиранилъ, издѣвался надъ раби Давидомъ, и капризничалъ въ самомъ безобразномъ видѣ. Но раби Давидъ, однажды рѣшившись, во что бы то ни стаю, снасти отца моего, переносилъ все его съ стоическимъ хладнокровіемъ. Наконецъ, наемщикъ былъ представленъ въ пріемъ, и ему, по техническому выраженію тогдашняго времени, дали лобъ. Отецъ мой былъ спасенъ.
Отъ больнаго скрывали всѣ колебанія его участи, и вотъ въ одно, истинно-прекрасное утро, послѣ окончательнаго пріема наемщика, раби Давидъ, запыхавшись, раскраснѣвшись и весь облитый потомъ, вбѣжалъ въ ту палату, гдѣ находился больной, бросился ему на шею, и со слезами радости вскрикнулъ:
— Богу молись, Зельманъ! Ты спасенъ. Теперь ты мой.
Пролетѣло лѣто и осень, наступила зима съ ея длинными вечерами. Раби Давидъ, болѣе свободный по зимамъ, началъ по вечерамъ посвящать отца моего въ сферу тѣхъ незначительныхъ свѣдѣній по части технической механики, которыми онъ руководствовался на практикѣ, при постройкѣ винокуренныхъ заводовъ. Сверхъ того отецъ мой, пользуясь совершенною свободой, въ досужее время, бросился съ жадностью на изученіе математики и астрономіи, къ которымъ чувствовалъ непреодолимое влеченіе. Частыя бесѣды опытнаго и разумнаго раби Давида пріучили моего отца къ практическому взгляду на жизнь и людей. Угаръ, вынесенный имъ изъ той среды, изъ которой его изгнали, мало помалу началъ проходить, забитость уступала мѣсто постепенно возникающему сознанію собственнаго достоинства. Онъ смѣлѣе посмотрѣлъ на жизнь и не опускалъ уже взора при встрѣчѣ со взоромъ людей, твердо на него глядѣвшихъ. Слѣдствіемъ этой смѣлости было то, что встрѣтившись однажды съ глазами дочери раби Давида, живой и бойкой смуглянки, и твердо выдержавъ ея взглядъ, онъ имѣлъ случай убѣдиться, что глаза эти смотрятъ на него съ особенною нѣжностью и любовью. Съ этой минуты глаза его слишкомъ часто останавливались на подвижномъ лицѣ дѣвушки. Чрезъ нѣкоторое время старикъ, по своему обыкновенію, безъ всякихъ предисловій, прямо предложилъ отцу моему жениться на своей любимицѣ Ревекѣ. Счастіе моего отца было безгранично: онъ сдѣлался мужемъ, раздѣлялъ труды своего тестя по постройкѣ и управленію винокуренными заводами, составилъ себѣ небольшой капиталецъ, и сдѣлался наконецъ самостоятельнымъ механикомъ. Въ довершенію счастія, родился и я на свѣтъ божій, чтобы умножить собою число евреевъ — страдальцевъ тогдашняго времени.
II. Страданія дѣтства
Нѣтъ ничего скучнѣе, какъ присутствовать при рожденіи героя разсказа, и няньчиться съ нимъ до тѣхъ поръ, пока онъ не начнетъ жить жизнью сознательною. Не желая наскучать своихъ читателямъ безъ особенной надобности, я пропускаю первые семь лѣтъ моей жизни, и приступаю прямо къ тому періоду моего существованія, съ котораго я началъ туманно сознавать себя и ту горькую судьбину, которая не переставала тяготѣть надо мною во всю жизнь. Если евреи развиваются нравственно необыкновенно рано, то они этой ненатуральной скороспѣлостью обязаны исключительно безжалостнымъ толчкамъ, которыми судьба надѣляетъ ихъ съ самаго ранняго дѣтства. Бѣда — самая лучшая школа.
Первые семь лѣтъ моей жизни не представляютъ никакого особеннаго интереса. Мать моя, кажется, очень любила меня, хотя я и часто чувствовалъ на хиломъ своемъ тѣлѣ тяжесть полновѣсной ея руки. Отецъ былъ всегда суровъ и угрюмъ, почти никогда не ласкалъ меня, но въ то же время и не билъ. Если я надоѣдалъ домашнимъ своимъ ревомъ или хныканіемъ, то отцу моему стоило только посмотрѣть своими серьёзными, задумчивыми глазами, чтобы заставить меня замолкнуть и уткнуть голову въ пуховики. Онъ на меня смотрѣлъ, какъ на червяка, котораго недолго раздавить, но что пользы? — вѣдь всѣхъ червяковъ не передавишь, и онъ былъ правъ: матѣ моя народила ему цѣлую кучу такихъ червяковъ, какъ я. Жили мы въ деревнѣ, въ какомъ-то дремучемъ лѣсу. Нѣсколько избъ и избушекъ, вдали вѣчно дымящая винокурня, рѣчка, извивающаяся между высокими соснами, рогатый скотъ и тучные кабаны, откармливаежые на бардѣ, вѣчно испачканные мужики и бабы, — вотъ картина, врѣзавшаяся въ моей памяти, и непоблѣднѣвшая въ ней до сихъ