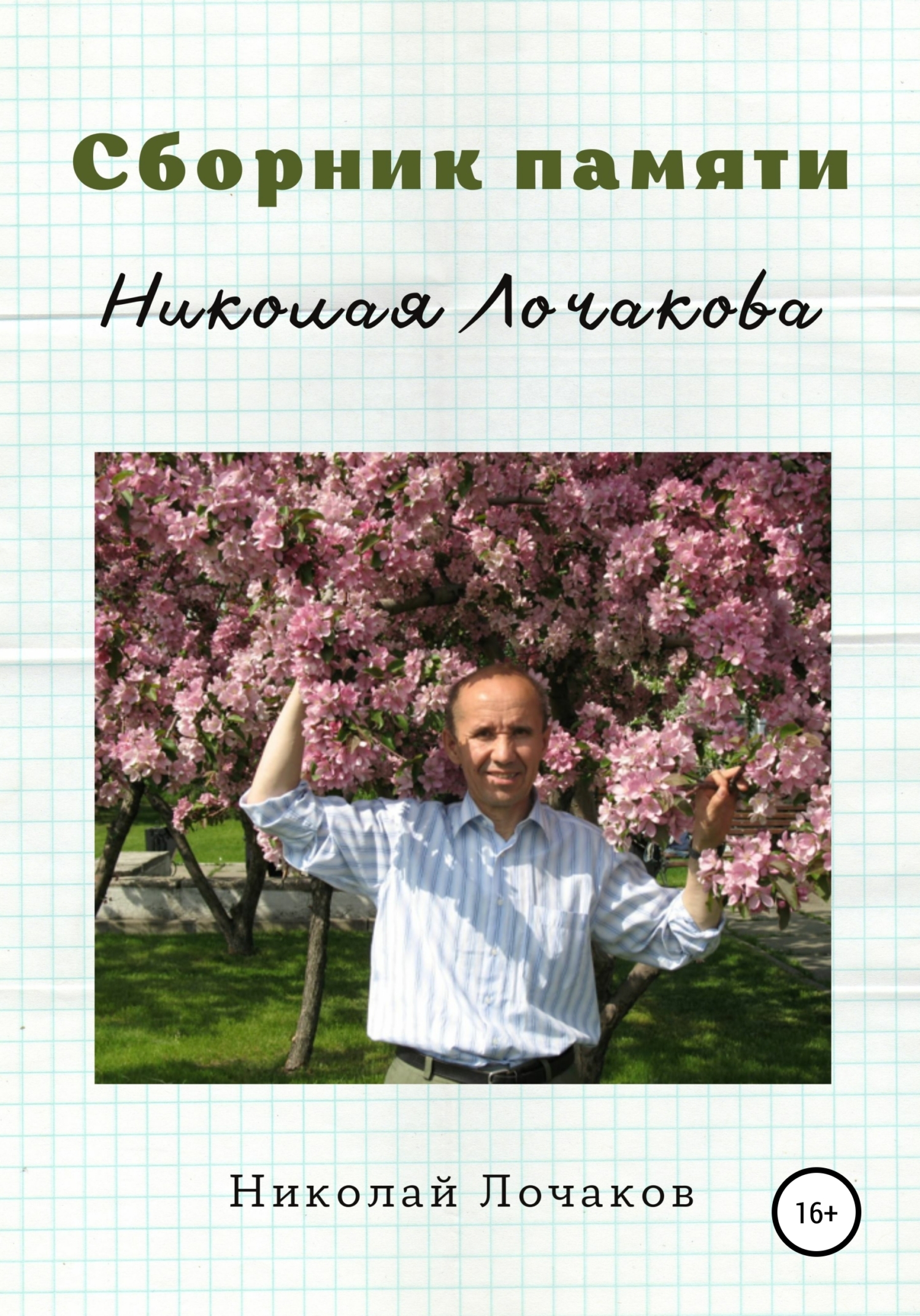меня секретов, я его знаю как свои пять пальцев или как материнское чрево, – они не признаются в любви к этому городу, а вот я его люблю, потому что он не раскрывается передо мной до конца, он тебе отдается и одновременно вырывается у тебя из рук. Этот город родной и чужой, я люблю его длинные узкие темные улочки, его широкие просторные светлые проспекты, его разборки с дорожной полицией, его окраины и укромные местечки, его исторические памятники («вот там, справа от вас – великолепный готический собор»), его пустыри, его парки, его исторический центр, его опасные кварталы, где я пытаюсь расхаживать с гордым видом, как главарь мафии (ладно, я не похож на главаря мафии, ну, как мелкий бандит, который толкает дурь граммами), его таинственные подземелья, по которым я не устаю бродить, его упрямые тупики и так далее и так далее, и все же надо знать: этот город нельзя назвать ни стоящим навытяжку, ни простертым ниц, потому что это город восстания, он говорит «нет» и «да» в одно и то же время, он знает, чего он не хочет, знает, к чему стремится, и, когда он двигается, у того, кто в нем находится, нет иного выбора, кроме как сопровождать его, закрыть глаза и довериться ему, следовать за ним по траектории, которая похожа на случайную, но не является случайной, которая напоминает беспорядочные метания сумасшедшего, но на самом деле является инициацией революционера, единственного настоящего революционера – любовника, и в конце пути этот последний обнаружит, что он не готов, ибо человек никогда не бывает по-настоящему готов к таким вещам, но он поймет смысл великих жертв в борьбе за правое дело.
Мы занимались любовью, чтобы компенсировать год без любви. Мы занимались любовью в память о прошедших ночах. Мы занимались любовью в память о скамейке в сквере на бульваре Распай. Потом мы опять занимались любовью – про запас, ведь нельзя было исключать, что следующий интервал у нас будет длиной в вечность. Последнее объятие оставило нас без сил. Было, наверное, около шести утра. Уже начали раздаваться звуки, предвещавшие день. Не знаю, можно ли было сказать, что Старый город проснулся, ведь он и не засыпал, разве что вполглаза. Другая половина была свидетелем нашего бунта.
– Надо немного отдохнуть, – сказала она. – В два часа Ба Му Сёсс (она произнесла название организации не во французском переводе, а на языке волоф) проводит выборы координационного совета протестующих накануне 14 сентября. Я должна там быть.
– Кто тебе сообщил о том, что здесь затевается?
– Друзья, корреспонденты газет, активисты. Многие журналисты следят за акциями гражданского протеста в Африке. После Алжира я поехала в Буркина-Фасо. Там познакомилась с сильными, решительными, революционно настроенными людьми. Достойными продолжателями дела Санкары. Когда я узнала о самоубийстве Фатимы Диоп, сразу поняла: в Сенегале что-то произойдет. И бикфордов шнур неизбежно протянется через Дакар. Я прилетела первым же рейсом. Сейчас здесь забрезжила надежда для борющейся молодежи всей Африки, всего мира. Нет, я не романтизирую бунт, если ты так подумал. Я знаю, во что порой обходятся протестные акции. Поэтому отношусь к ним с уважением. Поэтому хочу, чтобы мир увидел их, как вижу их я. В глазах у людей – огонь. Он переворачивает мне душу. Я вижу его в лице Фатимы. Это огонь гнева и негодования, но также и глубочайшего чувства собственного достоинства.
Я ничего не ответил и обнял ее за плечи. Она не отстранилась. Я даже как будто уловил едва заметное движение плеч и бедер: она хотела, чтобы наши тела сплелись теснее. Несколько секунд мы молчали.
– Ну, а ты? – спросила она. – Что ты делаешь в Сенегале?
Я помедлил с ответом. Должен ли я был сказать правду? Я не хотел признаваться ей, что вернулся в Сенегал ради Элимана и «Лабиринта бесчеловечности», так же как не решился признаться в этом родителям: из страха, что мой поступок сочтут легкомысленным или неуместным. Лучше солгать, чем рассказывать об увлечении, которое в сложившейся ситуации могло выглядеть неприличным. Какую ценность, какой смысл имеет мое расследование перед лицом событий, которые развернулись в стране несколько дней назад? Что значит творческий путь писателя в сравнении с бедствиями народа? Поиски главной книги в сравнении с желанием отстоять свое человеческое достоинство? Литература в сравнении с политикой? Элиман в сравнении с Фатимой? И я решил солгать. Сказал Аиде, что приехал в отпуск повидаться с родными.
Д – 3
На следующий день мы с Аидой, собираясь расходиться каждый по своим делам, стояли на оживленной улице в задумчивости: что подойдет для прощания? Быстрое чмок-чмок? Долгий поцелуй? Рукопожатие? Небрежный взмах пальчиками? Улица стесняла изъявление чувств, как и культура, и взгляды прохожих, и наш цвет кожи, и ее длинные волосы, туго заплетенные в косу за спиной, вбирающую в себя лучи полуденного солнца. Но, скорее всего, мы стеснялись друг друга: наше прошлое, на одну ночь извлеченное из мрака забвения, давило на нас тяжким грузом. По молчаливому обоюдному согласию мы выбрали быстрое однократное чмок, почти у самого рта. Я озаботился стереть перед возвращением домой красный след от помады. Она направилась в университет Шейха Анта Диопа, на учредительное заседание координационного совета Ба Му Сёсс. Мы обещали писать друг другу сообщения.
Когда я пришел домой, мама метнула в меня один из тех взглядов, которые без слов говорят: я твоя мать, и я знаю, чем ты занимался сегодня ночью. Однако она не задала никаких вопросов, отец – тоже. Вторую половину дня я провел дома, с младшими братьями и родителями, заново привыкая к их повседневной жизни, от которой во Франции у меня не осталось даже воспоминаний.
Пришла эсэмэска от Аиды: «Признаюсь, я скучала по тебе. Весь этот год мне хотелось написать тебе, но я удерживалась, чтобы не потерять лицо. Чтобы не усложнять жизнь. Но жизнь усложнилась сама собой. Мне тебя все еще не хватает. Все мои чувства требуют тебя. Они хотят снова узнать тебя. И хотят, чтобы ты снова узнал их. Тем не менее я считаю, что нам больше не надо встречаться. Знаю, я противоречу сама себе, но это так. А чего хочешь ты?»
«…Ты, наверное, хочешь, чтобы я сказала, что за человек он был? – говорила гаитянская поэтесса Сиге Д. – На этот вопрос нет простого ответа, Corazon. Он много месяцев посещал литературный салон моих родителей, прежде чем я впервые услышала его голос. Он мало разговаривал. Больше слушал; и возникала надежда, что благодаря своим размышлениям он вдруг одним словом разорвет завесу, которую никто не видел, но каждый чувствовал, и