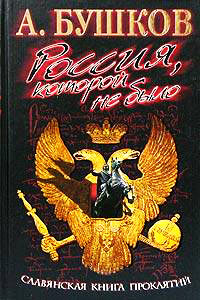отчитал меня — опасность возрастала с каждой минутой. Несчастный Лаприда! Я был последним из тех, кто уважал и ценил его, кто слышал этот голос, вскоре умолкший навсегда! Последуй я за ним, и нам не пришлось бы оплакивать утрату того, кто прославил свою родину — Сан-Хуан, перед кем склоняли голову лучшие сыны Республики — ведь он был одним из отцов родины, олицетворением Тукуманского конгресса, провозгласившего независимость Объединенных провинций. Едва мы расстались, как тут же он был убит, говорят, санхуанцами, но долгие годы никто не знал подробностей трагической развязки той ночи!
Я покинул поле битвы после того, как на моих глазах погиб адъютант Эстрелья, один из наших прикончил преграждавшего мне путь вражеского солдата — мы бились с ним на пиках и саблями, и я ранил его. Пришлось пробираться через расположение частей противника, попадать в различные переделки, переживать неповторимые мгновения, оказываться на улицах, занятых нашими, потом снова на территории врага. В одном месте я видел, как братья Росасы, принадлежавшие к враждебным лагерям, схватились между собой из-за коня; в другом повстречал Хоакина Вильянуэву, который вскоре был пронзен пикой, потом наткнулся на его брата Хосе Мариа, обезглавленного три дня спустя. Положение менялось каждый миг, как на конских скачках, а состояние духа победителей и побежденных, стеснившихся на одной улице на расстоянии в пол- лиги друг от друга, не позволяло и помыслить о спасении бегством. Мало кто знал, что происходило позади нас, и одним из этих немногих был я. Час тревоги и страха настал для меня, когда, выйдя из лабиринта смерти, дорогой, которую среди ужасов прокладывала мне моя счастливая звезда, я попал в руки мародеров, направлявшихся на грабеж в город. Меня разоружили, разули, но затем передали начальнику гарнизона дону Хосе Сантосу Рамиресу. К чести его следует сказать, что он оставил по себе достойную память: в этой мясорубке он спасал раненых и пленных, укрывал их под своим домашним кровом. Майор Рамирес спас и меня: четыре дня спустя, когда в Сан-Хуан был доставлен приказ расстрелять взятых в плен молодых санхуанцев (тогда погибли Эчегарай, Альбаррасин, Карриль, Морено и другие — большинство принадлежало к именитым фамилиям города, без колебаний, по убеждению взявшим в руки оружие), дон Хосе Сантос Рамирес ответил тем, кто требовал моей выдачи: «Этот юноша — гость в моем доме, и вы сможете схватить его, лишь перешагнув через мой труп». Вскоре он отправил меня к Вильяфанье, и один из моих дядьев водворил меня в лоно семьи.
Достойно воспоминания и то, что происходило с моим отцом, спасшимся в начале нашего разгрома. Не имея обо мне никаких известий, он был безутешен, потерял покой, страдал от того, что уцелел. Каждый раз отец отправлялся встречать беженцев в надежде, что среди них отыщется его сын, дождался последней группы — за ней двигались вражеские войска. Он не последовал далее за беглецами в Кордову, целыми днями метался в расположении авангарда противника и наконец был схвачен — так инстинкт толкает тигра, у которого отняли детеныша, в руки жестоких охотников. Отца доставили в Сан-Хуан, заперли в часовне и не расстреляли лишь благодаря выкупу в две тысячи песо.
Я опускаю рассказ о том, как едва не погиб в наших казармах от рук смутьянов Панты, Леаля и Лос-Эррераса, расстрелянных потом Бенавидесом, о смертельной опасности, подстерегавшей меня на следующий день,, когда руки мои обагрились кровью несчастных мятежников,— на этот раз меня спасли обстоятельства, не зависимые от моей воли. Я опускаю также многие другие события, военные маневры и бесплодные кампании, вплоть до самого триумфа Кироги в сражении при Чаконе, вследствие чего в 1831 году мы вынуждены были бежать в Чили. Там я хлебнул лиха: надомничал у родственников в Путаэндо, был школьным учителем в Андах, трактирщиком в Покуро (пригодился присланный родителями небольшой капиталец), затем продавцом в Вальпараисо, управляющим шахтами в Копиапо; на восемь дней превратился в игрока в Уаско, и так до 1836 года, когда я вернулся на родину. Я приехал больной, после кровоизлияния в мозг, без средств, забытый почти всеми, ибо политические междоусобицы вызвали массовую эмиграцию представителей образованного сословия. Но тут властям понадобился знаток математики, и я благодаря этому привлек к себе внимание и, одолев неблагоприятные обстоятельства, с помощью родственников вошел в круг блестящей молодежи Сан-Хуана и вскоре снова стал неразлучен с давними моими сотоварищами по школе — доктором Кирогой Росасом, Кортинесом[448], Аберастаином[449], людьми мужественными, талантливыми и просвещенными, достойными представлять нашу страну в любой части Америки.
В этом содружестве родились полезнейшие для Сан-Хуана начинания: была основана женская школа, потом мужская (вскоре их пришлось закрыть), было создано театральное общество, предпринято множество иных общественно-полезных дел с целью улучшения нравов. Но самым важным из всех наших начинаний была газета «Сонда», бичевавшая косные нравы, пробуждавшая стремление к прогрессу. Польза от нее была бы неисчислима, если бы власти — а их «Сонда» и не трогала — не побоялись ослепнуть от света просвещения. И меня снова посадили в тюрьму, на этот раз за отказ заплатить двадцать шесть песо — именно такую сумму в нарушение всех законов вымогали у меня власть предержащие. Дон Насарио Бенавидес и дон Тимотео Марадона[450], вместе et in solidum[451] мои должники по гроб жизни, и бог свидетель, они мне заплатят эти двадцать шесть песо, не один, так другой, сегодня или позднее, скорее второй, чем первый, ибо министр — это служащий на своем посту, обязанный давать советы губернатору, темному по части законов и слишком своевольному, чтобы его остановили эти хрупкие перед его капризом барьеры — они становятся неодолимыми только благодаря уважению, которым среди цивилизованных людей пользуются чужие права.
А дело было так. Согласно издательским установлениям единственная общественная типография провинции Сан-Хуан существует за счет оплаты издателями своих публикаций, и в доход ей остается выручка от продажи газет. И вот губернатор Сан-Хуана решил уберечь провинцию от тяжких бед, что могла принести ей газета, выпускаемая четырьмя весьма искушенными литераторами, или, иными словами, от этих внимательных наблюдателей, следящих за событиями и просвещающих общественность. Он приказал передать, что, начиная с шестого номера и далее, стоимость печатного листа «Сонды» возрастает до двенадцати песо. Я велел наборщику рассыпать набор, и таким образом газета испустила Дух.
Вскоре получаю распоряжение предстать перед властями. «Вы оплатили стоимость последнего номера "Сонды"?» — «С какой стати? Кому?» — «Типографии».— «Но почему?» — «Таков приказ».— «Чей?» — «Вам был передан приказ».—