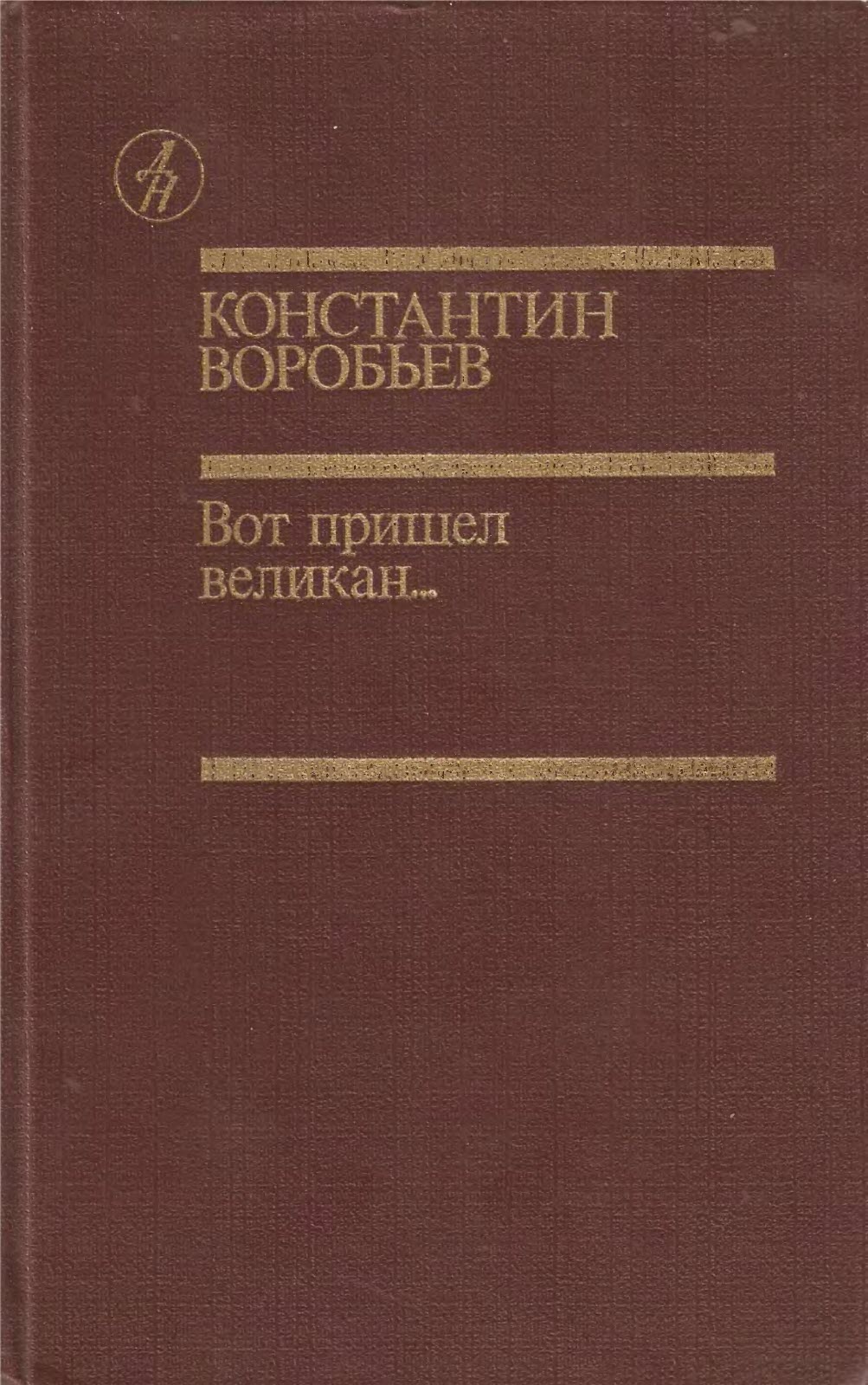покосившуюся к омуту мельницу, слева смутно различимые треугольники ледоломов, высунувшихся из тусклого, рябого под дождем пруда. А дальше лес.
— Почему мы стоим?
— Наверно, ждем трактор, — сказала она в ответ тому самому Васе Платунову, с которым в далекий вечер петрова дня танцевала первую кадриль и, по странной непонятной причине, обмирала от одного прикосновения его руки.
— Зачем трактор? — спросил он капризно-ворчливо, и она еще раз подумала, что это он.
Забыл он, что ли, Осунскую гору? Если кто тут хоть раз ехал в непогоду, тот никогда бы не забыл гиблой Осунской горы и не задавал глупых вопросов. Она терпеливо ответила, что без помощи трактора здесь в эту пору дорога заказана, что на мельнице, за сорок километров от колхоза, приходится держать для таких оказий трактор. Он стоит тут всю осень, бывает, и зиму только для того, чтобы вытаскивать машины в гору. Платунов слушал ее и с раздражением думал о людях, вот о ней, Старшой, Апостоле, Малом, что мучаются на этих чертовых проселках, думал об их привязанности к неустроенной сельской земле, зараженных идеями продать в городе как можно больше и выгоднее своих колхозных продуктов и выручить как можно больше тех замусоленных, потерявших банковский вид купюр, которые до умопомрачения считает Апостол. Если им не построили дорогу, на кой черт они берут все эти тяготы на свой горб? Странный народ…
Платунов сидел, плотно вжавшись в угол короба, стараясь сохранить тепло, втянул голову в плечи, на самые уши надвинул шляпу. Он слышал, как Старшая постучала в стенку кабины, снаружи кто-то долго возился с замком. («Зачем они запирают короб? Деньги у Старшой, что ли?»)
Дверь открылась. Апостол Антон сказал:
— Давай помогу.
Послышалась возня, и Платунову представилось, как негармоничные руки Апостола ухватили Старшую где-то под мышками, а она даже и не почувствовала этих рук — огрубевшая, давно позабыла, что такое щекотка.
— Закройте дверь, — попросил Платунов и остался сидеть в своем углу. — Дует.
Дверь тихо прикрылась, но замок на этот раз не щелкнул. Голоса удалились.
Платунов ждал долго. Сырой холод обволакивал его всего, сковывал тело, отуплял сознание. В душе копилось глухое раздражение и против этих людей — не подвернись они, Платунов никуда бы не поехал, — и против тех, кто не построил дорогу и заставляет его маяться.
Дождь перестал барабанить по крыше. Слышалось лишь заунывное шипение падающей с высоты воды и ровный, усыпляющий гул, будто под землей что-то чуть-чуть бурлило, начиная закипать. Под эти утомляющие звуки Платунов, весь съежившись в комок, чуть было не заснул. Ему хотелось заснуть и этим избавиться от мук. Он хотел избавиться от них хотя бы во сне. Но послышался голос Апостола, он тревожно звал Старшую. «Уж не посеял ли где свой мешок с купюрами?» — вдруг с интересом подумал Платунов. Оказалось, однако, что Апостол хотел предупредить Старшую о яме, полной грязной воды, в которую он сослепу окунулся. Это рассмешило Платунова.
«А мешок, — ай-ай! — все-таки попробовал купели!» — подумал Платунов. Почему-то именно мешок больше всего его раздражал.
С подгорья шел трактор. Он стучал и тарахтел дизелем, шлепал по мокрой земле широкими гусеницами, просторно светил впереди себя двумя ослепительными фарами. Короб сильно встряхнуло, дверь с треском распахнулась, и Платунов полетел на овчины. Так началось «восхождение» на Осунскую гору. Короб трясло, бросало из стороны в сторону, дверь хлопала, то открываясь, то закрываясь, и перед Платуновым высветливался призрачный квадрат ночной холодной и мокрой земли.
«Какого черта они не упросили меня выйти! Знали же, что будет тряска», — едва подумал Платунов, как очередной толчок бросил его на дно короба.
Он потерял счет этим рывкам и броскам. А когда услышал голос Старшой, понял, что короб стоит. Колени его, затылок, лоб болели от ударов.
— Все-таки выползли! — в голосе Старшой слышалась радость. — Живы?
На миг Платунова окатила жалость к этой женщине, принимающей на себя такие муки, но раздражение тотчас погасило незваное чувство, и он сказал:
— Мучаете себя и людей… И все зря.
— Почему зря? — удивилась она, в темноте усаживаясь в противоположном углу. — Ни одной тушки еще не выбросили в канаву, все в городе по рукам расходится. Как об этом вспомнишь, так и подумаешь, что не зря.
— Подождали бы дороги, что ли…
— Кто ждет, тот в цене проигрывает, — сказала она и вспомнила его, длинноногого, в кремовой рубашке.
— И без того весь рынок завален. Сам видел.
— Завален… Может, такое и будет, когда дороги устоятся. А нам деньги нужны — за трактора платить, — сказала она и подумала, что, может быть, это все-таки не он. Не тот Вася Платунов, лучше всех танцевавший деревенскую кадриль, обходительнее всех умевший обращаться с девушками? Спросить? Неловко как-то. Неловко, да и вспоминать тогда будет нечего: вот он весь тут, гляди, любуйся!
Верещал мотор под днищем. Скрипуче жаловался на свои непомерные муки старый, расхлябанный короб…
Как мало запомнилось хорошего из их знакомства…
Вот разве что игра в горелки. Под конец праздника, когда все утомлялись и когда незаметно — для постороннего глаза вроде все друг к другу относились одинаково ровно — сами собой складывались парочки, горелки были незаменимой игрой.
Вставали девушки в круг. Парни грудились в сторонке, а потом, обходя круг, каждый выбирал себе пару. Девушки ждали, когда ее спины коснется чья-то рука. Надо было догнать убегающего парня, задеть его рукой — и вместе возвращаешься в круг. Идешь по сонной уже улице, когда-то травянистой, а за праздник вытоптанной, как гумно. И если люб выбравший тебя парень, идешь не спеша. А если не люб, спешишь поскорее добежать до круга.
Та ночь светлая была, незакатная. Свет никак не хотел уступать место темноте. Лес стоял будто во сне — весь в пепельно-серебристом свете. Река под горой отсвечивала бело, и не было в ней темной глубины, а над ней темно-голубого неба.
— Смотри-ка, река как слепая, — сказала она, когда он выбрал ее и они убежали на самый край деревни, откуда с горы виднелись недавно скошенные нырковские луга, река в плоских берегах, а за ней родная Наташина деревня Плоская.
— Ты погляди на небо, — сказал он. — Сколько у него глаз, и все они смотрят на нас с тобой. Это вот созвездие Рака, а это Тельца, а это Заяц…
«Странно, — думала она, — все земное переселилось туда».
Ей было хорошо от сознания того, что и там есть знакомое, деревенское, и оттого, что он все это знал.
Они ушли тогда в поле. Половина его была уже