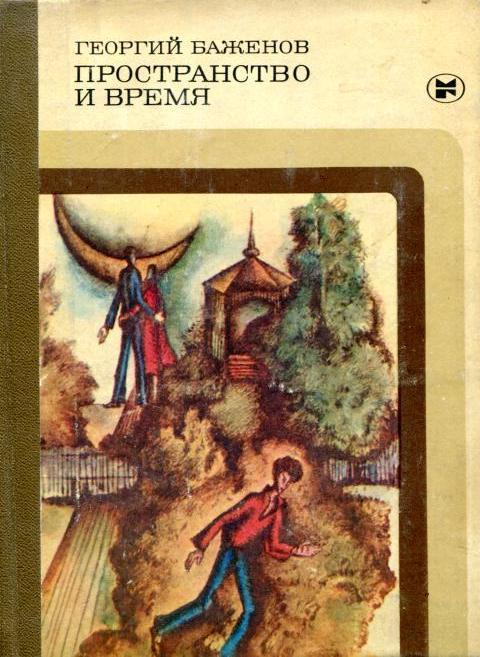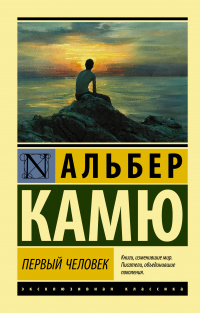Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 101
юный бородатый старик, произносил тосты, предлагая всем «взяться за руки». Две девушки в углу: одна – невероятной худобы, с приклеенной мушкой под правой ноздрей и в ажурных чулках; вторая, наоборот, корпулентная, с яростным декольте алого платья («Курсистки-неудачницы» – Иона всегда давал гостям прозвища, чтобы удобнее было носить заказы). Рядом с моим столиком с аппаратурой – вечно спящий мальчик лет за тридцать. Он спит на ходу с открытыми глазами, подглядывает за всеми, но ничего не видит.
Мужчины – за исключением журналиста-порнографа – были все как один бородаты. Отличались они только подходом к своим бородам: у одних это была небрежная небритость, у других – осознанная, у третьих – солидная продуманная борода, вычесанная, обработанная маслами и одеколонами, у четвертых – борода клочками. Скучно и как-то неприлично говорить о чужих бородах. Смотря только на их бороды, начинаешь их ненавидеть и стесняться, как будто чистишь ботинки голым людям. Но если и можно было классифицировать мужчин, ходящих в «Пропилеи», то бороды – удобнейшая мерка, по которой ты понимал и уровень их достатка, и степень серьезности, с которой они сами к себе относятся.
Женщины же были совсем не похожи друг на друга, кроме одной черты: все они держали правый или левый край губ чуть кверху. Из-за этой манеры их лица были одинаково презрительными и вместе с тем печальными, как будто они сожалеют о только что произошедшем, что бы это ни было. Это делало их опасными опасностью пчел или таксидермистов. Некоторым это очень шло. Бывшие уорренские женщины, они старательно строили соты внутри полумертвых мужчин, смотря, как те превращаются на глазах в полые свиные чучела. Это не я придумал, что женщины больше всего на свете любят пропойц и подонков, Иона говорит, что это чистая правда.
И все вместе, все эти женщины и мужчины, знали, что они необыкновенно красивы, и потому несли себя очень осторожно, словно страшась все время расплескать свою красоту и значение и словно все время держа в голове, как их оценивают другие. И каждый новый входящий наверняка произносил про себя в третьем лице что-то вроде «Он вошел в главный зал, его красивый лоб, выдающий глубокий интеллект, покрывали немногочисленные благородные морщины» или «Ее чуть влажные глаза были рассеянны и тонко подведены бирюзой». Наверное, поэтому, когда их взгляды, всегда блуждающие в поиске осуществления мечты о непонятном, упирались в меня, в их глазах – даже тех, кто ходил сюда часто, – появлялась какая-то скукоженная радуга: не «каждый охотник желает знать где сидит фазан», а «карлик какой он жалкий жуткий с феноменальной физиономией». Или проще: у них на лице рождалось брезгливое выражение с элементами интереса. Но это мгновенно проходило: их взгляды на мне не лежали долго.
– Кончая, он хлестал ее по заднице, по ее роскошной барочной заднице, только недавно лишенной бирюзовых трусиков, и от этого кончала она. Три волны потрясающего оргазма захлестнули ее в коллаборации его резким толчкам: «О, президент, президент компании!» – орала она.
– Ты понимаешь, все эти зеленые заборчики к хуям снесли, а там же закладок на миллионы было, понимаешь? На миллионы!
– Ваша воронка просасывает в динамике, посчитайте метрику привлечения лидов. Нужен вебинар, и это будет дорого.
– Никто ничего не знает, не знает как жить. Вот Балтрушайтис, помните, у него в еще раннем стихотворении…
Я слышал, как эта речь сливалась в один гул замусоренной воды. Эти столики шептались, кричали, ругались, плескались в создаваемом ими море. Я закрывал глаза и видел, как представители разных видов и подгрупп болтаются в этой грязной воде в ожидании ковчега, скучают внутри невидимого потопа. И я тоже. Закрывая глаза, я мог видеть, как у нас удлиняются уши, как сплющиваются носы в розовые розетки, как на задницах вырастают хвостики разной длины. Все фразы становились хрюкающим звоном.
– Нет, решено: ты будешь танцевать!
В общий гул внезапно влетел новый звук. Я открыл глаза: это был Меркуцио. Он привел с собой трех медведей, трубача и пожирательницу огня. Его голос, его речь чем-то неуловимо отличались от всего, что звучало в этой комнате. Все будто переменилось: бывает, ты с ужасом слушаешь, как оркестр бестолково настраивает расстроенные инструменты, но входит дирижер, рождается новый звук, и все получает смысл и образ. «Хулиганить разрешается!» – провозгласил он и, качнувшись, опрокинул столик. Наступая на битое стекло, Меркуцио кричал:
– Все королева Маб. Ее проказы.
Она родоприемница у фей,
А по размерам – с камушек агата
В кольце у мэра. По ночам она
На шестерне пылинок цугом ездит
Вдоль по носам у нас, пока мы спим.
Оглядев замерший зал, он схватил за нос сидящую перед ним режиссера в пирсинге и глядя ей в глаза спросил: «А можно вас сдать в металлолом?» И, не дождавшись ответа, продолжил:
– В колесах – спицы из паучьих лапок,
Каретный верх – из крыльев саранчи,
Ремни гужей – из ниток паутины,
И хомуты – из капелек росы.
Снова оглядел зал и крикнул:
– Давай, огонь!
Пожирательница огня стала жонглировать факелами. Зал наполнил дым. Я закашлялся, согнулся в три погибели, кто-то из вскочивших из-за столов резко толкнул меня, аппаратик выскользнул из уха, оглушенный сотней станций, я стал шарить по полу, ползая среди ног.
«Лещи в Сибири? – журналист-порнограф протянул мне аппаратик и приветливо улыбнулся, – творожные кольца, сверяйте!» Промычав что-то в ответ на эту бессмыслицу, я стал пробираться к туалету, чтобы вставить аппаратик и умыться. Успел спасти одно из писем, выпавшее из кармана плаща, его чуть не затоптали.
1.38
Да, я пишу. Пишу именно сейчас, тотчас после прихода, пока не разсеялось еще это проклятое настроение, мелко подозрительное, недостойное, может быть, но такое гнетущее. Откуда оно, что несет с собой – я не разбираюсь. Но тем труднее схватить его, выкинуть, понять причину.
Я не хочу и не могу быть за флагом, не люблю этого и не допущу. Это будет уже унижение в собственных глазах. Больше такого унижения не найти. Уйду раньше, переломаю себя, пойду на все, но не дождусь той необходимости, немой, невысказанной, но такой ясной…
Итак, проблема; Лиля, я для тебя что-то или же один из тех кубиков, которыми играет Виктор, бросает их, изредка останавливает свое внимание на одном, строит их, как вздумается, а когда надоедят – бросает?
Лиля, я пишу ерунду. Вот сейчас, в эту минуту я ясно сознаю это. Но пройдет она, и снова старое. Ведь вот оно, твое письмо последнее. Оно передо мною. Снова читаю
Ознакомительная версия. Доступно 21 страниц из 101