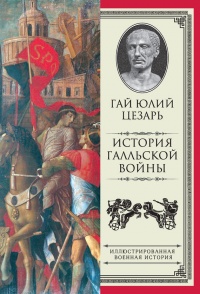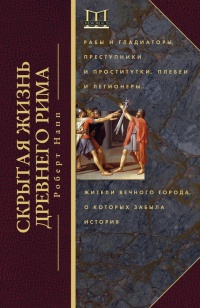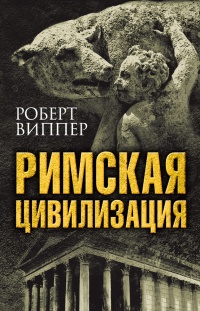Как не обратить внимание на такое обилие противоречий! Не доказывают ли они, что каждый автор черпал сведения из плохо скроенного и шитого белыми нитками «дела», состряпанного из враждебных провокаций или неуместных начинаний чересчур ревностных льстецов?
Конечно, грешные мысли у Цезаря имелись, но поведение его было каждый раз безупречным: он отказался от титула царя и от венка, ибо считал такое высшее отличие чрезмерным или недопустимым. Он никогда не соглашался принять титул царя — в этом единодушны все источники. Не соглашался он и повязывать при жизни повязку, как эллинистические цари[795]: «Я — Цезарь… стало быть я римлянин».
Поскольку известно, что Цезарь поддавался разным соблазнам, его сочли способным поддаться наивысшему из них — соблазну царской власти. Скажем ясно: мы не можем в это поверить, ибо подобное искушение, о котором каждый автор сообщает более или менее подробно, описывается с подозрительно умозрительным нагнетанием страстей: сначала обычный венок, возложенный на статую, анонимное провозглашение царем во время официального въезда в Город (adventus), затем предложение диадемы самому Цезарю с тем, чтобы увенчать его как живого бога, — все это было сфабриковано для того, чтобы обеспечить моральный комфорт заговорщиков и не смущать души историков, все это так логично и объяснимо! Как же этому убийству, выглядящему отцеубийством и навсегда вычеркнутому из календаря Августа, не стать законным, коль скоро речь шла о ниспровержении царя и о том, чтобы пробудить славные воспоминания о Бруте и об основании Республики, которую каждая партия тешила себя надеждой восстановить одновременно со свободой? Все это лишь магические слова, дающие в руки оружие и скрывающие глубинные мотивы, будь они достойными или неблаговидными.
Мы уже видели, что у всех заговорщиков были основания испытывать к Цезарю ненависть и зависть. Каждому было в чем себя упрекнуть: в неспособности к действию, в трусости или в предательстве. Уничтожить тирана, желающего стать царем, — вот что могло помочь возродить мужество, познавшее унижение. Все становилось поводом к игре в слова и к инсинуациям. Его статую поместили в храм Квирина? Цицерон радуется: лучше уж Квирин, ипостась убитого Ромула, чем Salus, Благополучие. Так всем противникам Цезаря навязывалось искаженное представление о его намерениях, и им показалось весьма удобным приписать ему стремление к царской власти, — жертвой такого обвинения в свое время стал Тиберий Гракх,[796] — для того, чтобы составить заговор и принять решение об убийстве.
Да и не было ли все это, по выражению Николая Дамасского, благовидным предлогом для сокрытия истинных причин и мотивов? Как мог Цезарь, прекрасно знавший историю Рима, повести себя столь безрассудно? Он, кто всегда желал лично общаться с народом, кому было необходимо погружаться в толпу, исцелявшую его от низости льстецов и глупости олигархов, — как мог он надеяться заслужить овации, заставляя величать себя царем в Риме, где именно цари были ненавистны? Зачем стал бы он бесить народ «оскорбительным для слуха титулом, вызывающим ненависть и зависть»?[797]
«Я — Цезарь…» Не содержится ли в этом горделивом ответе, приведенном Аппианом, утверждения о том, чем он был и чем хотел быть, то есть самим собой? Он не называет себя даже диктатором или императором, и его ответ предвещает тот, что Тит Ливий вложил в уста Сципиона Африканского в момент, когда Эдекон, вождь иберийского племени эдетанов, провозгласил его «царем»: «Сципион сказал, что для него звание императора, данное ему солдатами, самое почетное; а царское звание, столь уважаемое у других народов, в Риме ненавистно (regium nomen alibi magnum, Romae intolerabile esse). Пусть про себя думают, что у него душа царственная, — если они считают это признаком душевного величия, — но не произносят вслух этого слова»[798]. Цезарь был всего лишь человеком, гениальным полководцем, воплощением военной доблести, и своим великодушием он показывал, что он — вождь, освободивший сограждан от варваров и от внутренних раздоров. «Я — Цезарь…»
В любом случае ни одно событие до 15 марта не кажется решающим: этот день оказывается одновременно и днем, когда Л. Аврелий Котга должен был короновать Цезаря, и днем его убийства — такое хронологическое совпадение не может не насторожить. Впрочем, распространялась и еще одна клевета относительно поведения Цезаря в будущем: по возвращении из победоносной экспедиции против гетов и парфян никто не осмелится отказать ему в царском титуле. Но тогда возникает новое противоречие: стало быть, Цезарь собирался принять царскую диадему не до отъезда на Восток, а после своего возвращения оттуда?
Да и вообще, не был ли этот царский титул бесполезным? Ведь, как отмечает Аппиан,[799] «власть диктатора на деле равна царской». Так что республиканские установления предоставляли Цезарю достаточно возможностей как для того, чтобы удовлетворять свои амбиции, так и для того, чтобы решать текущие задачи. Именно сенат и народ своим голосованием узаконили режим диктатуры, при котором правая рука диктатора, начальник конницы (magister equitum) Лепид командовал истинно царской силой — конницей. Цезарь вполне мог удовлетвориться тем, что заставлял народ судачить, нося красные сапоги на манер древних царей Альбы, от которых он будто бы и происходил по линии Юла[800]. Однако связывать себя с добродушными альбанскими царями — это не то же самое, что возрождать этрусскую монархию, низложенную первым Брутом.
Так что не следует доверять всей той клевете и тем лживым слухам, которые отравляли первые два месяца 44 года. Надо ли принимать даже гипотезу, будто Цезарь желал быть диктатором в Риме и царем в провинциях? Не значит ли это пытаться возвести на этом раздвоении будущий принципат и выдвинуть новое обвинение в одних лишь намерениях?
В конце концов пора развенчать столь заботливо поддерживаемый миф о том, что Цезарь стремился к царской власти. Не будем забывать: это он велел сделать запись в официальном календаре о том, что по велению народа консул Марк Антоний предлагал ему царскую власть, но он ее отверг[801]. На самом деле великий страх заговорщикам внушала личность Цезаря, то, как он вел себя в роли вождя партии и как управлял государством.
Свержение революционера
Перейти к действиям заговорщиков заставили именно страх перед революционером и боязнь потрясения устоев государства: haec commutatio rei publicae[802].