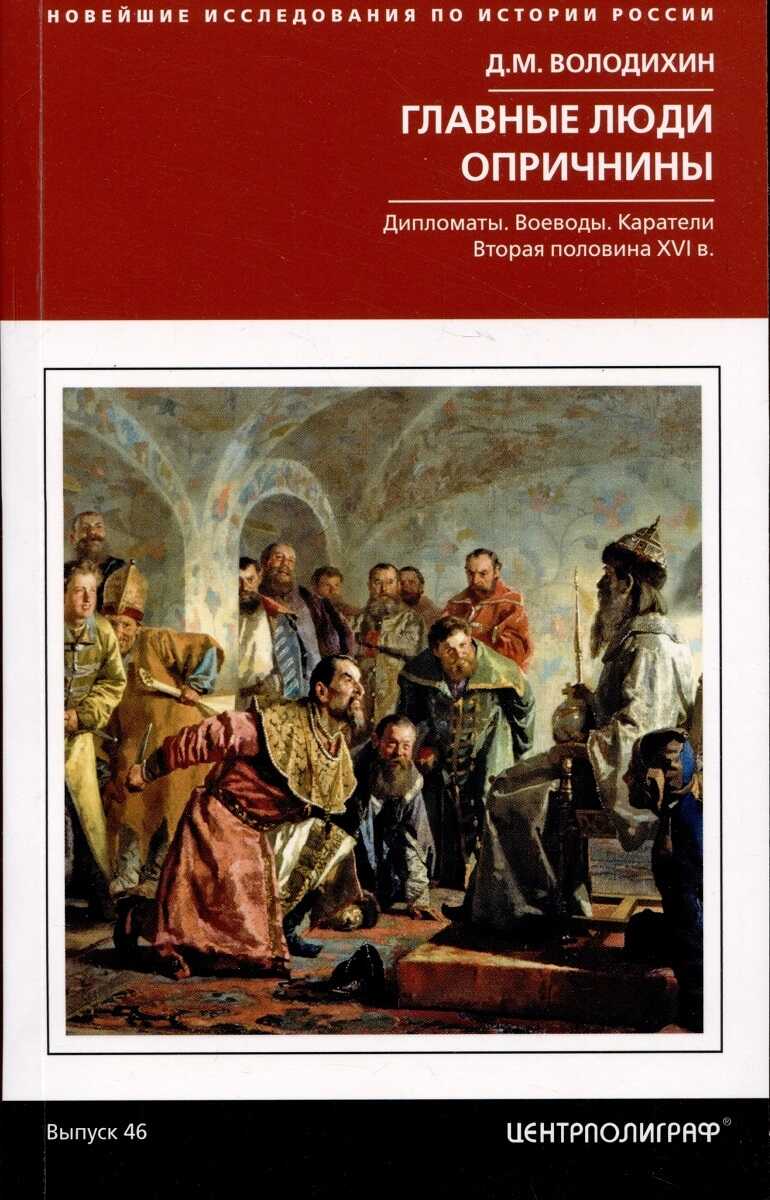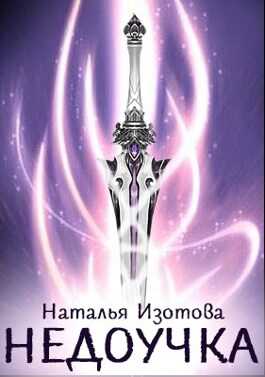уходят быстрым шагом, оставив его одного.
— Дай им Бог удачи! Я к ним ничего не имею, — тихо сказал Войтек и побрел к хозяину за расчетом.
1909
Фотография
— Вот вы говорите — искусство… — Хозяин, интеллигент с еврейским лицом, грустно и в то же время иронично улыбнулся гостям — художникам и литераторам. — Мне неловко в этом признаться, но искусство до сих пор остается для меня чем-то непонятным. Я обожаю картины, барельефы, статуи, но отказываюсь о них рассуждать. Есть у меня друг, писатель, он считает себя большим знатоком, ходит на все выставки, каждую картину рассматривает как специалист: издали, вблизи, еще пальцы трубочкой сложит и посмотрит, как через подзорную трубу, а потом начинает рассуждать о свете и тени, нюансах, оттенках, линиях. Нужна немалая смелость, чтобы такие слова при настоящих художниках произносить, но мой приятель не боится, я ему даже завидую, а ведь он в живописи не больше моего понимает.
Да и где я мог стать знатоком изобразительного искусства? Родом я, как и все мы, из маленького местечка. В доме у нас всегда было чисто, но обстановка — проще некуда. Голые стены, только на одной висела птица, которую моя сестра сама вышила синей, красной и желтой ниткой, а глаза — черной. Выглядела эта птица как неведомый зверь с рыбьим хвостом. Была, правда, еще картинка на восточной стене[136], тоже с двумя какими-то животными, но она очень высоко висела, под самым потолком. Мы, дети, могли бы ее рассмотреть, только если на стол забраться, что было строго-настрого запрещено. Но мы сходились на том, что это леопарды.
Остается еще «Пасхальная агода», где были нарисованы четыре брата: мудрец, злодей, простак и тот, который не умеет задавать вопросы. Но у них даже лиц было не разглядеть. Во-первых, типографская краска смазалась, во-вторых, их потом еще бог знает сколько раз вином заливали. Сейчас такую «живопись» можно было бы отнести к футуризму.
Вы спросите: а как же мамин Тайч-Хумеш? Там всегда есть картинки, которые очень нравятся детям. Но мама берегла свой Тайч-Хумеш как зеницу ока и всю неделю хранила его под замком вместе с украшениями. Только в субботу или праздник, надевая жемчужное ожерелье и серьги, она доставала Тайч-Хумеш, но даже из рук его не выпускала. Мы к нему и притронуться не могли.
Если еще упомянуть снеговиков, которых мы лепили зимой, то вот и все изобразительное искусство, на котором мы, так сказать, воспитывали в себе чувство прекрасного.
Однако, чтобы быть точным, я хочу рассказать о единственной фотографии, которая хранилась у нас в доме. Разумеется, она была без рамки, в еврейских домах о таком тогда даже не слыхали. Это была фотография отцовского друга, который жил, как тогда говорили, в глубине России, в Чернигове, и был там подрядчиком. Такой уже в те времена мог позволить себе сфотографироваться. Фотографию хранили пуще глаза. Она лежала у отца с самыми важными бумагами: с маминым брачным договором, документами на дом, парой старых долговых расписок и квитанциями, что в управу уплачен ежегодный налог в восемь злотых. Между этих «святых», необходимых бумажек лежала наша единственная фотография, и называли ее не «фотография», а «портрет». Я видел ее очень редко. Без отцовского разрешения достать из комода документы, надежно перевязанные бечевкой, — это был бы слишком отчаянный поступок даже для такого сорванца, как я. Приходилось ждать, когда у отца будет подходящее настроение. Обычно это случалось долгими зимними вечерами, когда у него не было работы. Широко зевнув, он щелкал пальцами и говорил:
— Давайте-ка посмотрим портрет Йосефа.
В доме поднималась суматоха. Еще бы, это же целая церемония.
И после того как отец отделял фотографию от соседей — маминого брачного договора, документов на дом и квитанций из управы, — он рассматривал ее в свете лампы, как сейчас известный критик рассматривает произведение искусства.
— Красивые шляпы там носят, — удовлетворенно говорил отец, изучая «портрет».
— Дай мне тоже посмотреть. — Я протягивал руку.
Отец, вообще-то человек очень добрый, не спешил протянуть мне фотографию. Слишком ценная вещь, чтобы дать вот так сразу. Приходилось просить снова.
Но он все равно не давал, и приходилось вмешиваться маме:
— Дай ему посмотреть. Не съест он ее…
Лишь тогда отец, проверив, чистые ли у меня руки и напомнив, чтобы я осторожно держал фотографию за края, а не ощупывал пальцами, доверял мне портрет черниговского подрядчика.
Я смотрел на его лицо со священным трепетом. Шутка ли сказать, человек живет где-то далеко-далеко, а я держу в руках его изображение. Вот он, здесь, даже в шляпе и клетчатых брюках.
Но отец не позволял мне вволю наиграться с фотографией. Она была ему слишком дорога. и, проворчав: «Хватит!», он отбирал ее у меня и надолго прятал среди самых нужных бумаг.
Еще мне выпадал случай увидеть фотографию, когда я болел. Больному ребенку невозможно отказать, ему даже варенье понемножку дают. А если болезнь такая тяжелая, что нужно банку варенья с чердака доставать, то нужно и с черниговским подрядчиком позволить поиграть. Только умоляют, чтобы не порвал. Ребенок капризным становится, когда болеет.
Фотография служила показателем, насколько тяжело ребенок болен. Если он рад фотографии, значит, ничего опасного, но если, не дай бог, он от нее отказывается, то дело серьезно. Не хочет даже фотографию, с которой сам отец любит поиграть! Нужно срочно посылать за лекарем Довидом!
— Вы только послушайте! — объясняла ему мама. — Портрет мальчику даем, а он не хочет! Как вы считаете, реб Довид? Опасно?
И реб Довид, непревзойденный целитель, сам пытался дать ребенку «портрет» и, убедившись, что он и правда его не берет, ставил диагноз:
— У него жар.
В смысле, у ребенка, а не у подрядчика на портрете.
*
— Вот так, друзья, — закончил бледный еврейский интеллигент повествование о своем детстве, — единственная у нас в доме картина, представлявшая собой фотографию человека в шляпе и клетчатых брюках, удовлетворяла нашу тягу к прекрасному. Как же мы вдруг стали такими великими знатоками, чтобы смотреть на настоящие произведения искусства одним глазом через пальцы, сложенные трубочкой?
Мы можем любить живопись, но тихо, скромно. К чему эта показуха? Терпеть не могу!
Гости немного обиделись, но никто не возразил. Все молчали, будто чувствуя какую-то вину.
1916
Анекдот
Гирш был человек замкнутый, разговоров не любил, неспроста знакомые и родные прозвали его Молчуном. Но он не обижался на это прозвище, наоборот, даже немного им гордился. «Ну, пускай