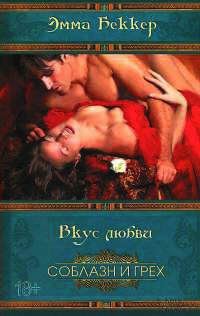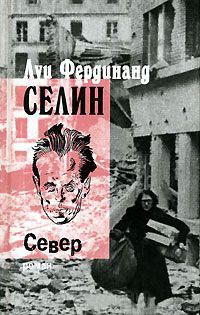списки борделей Берлина. Этот казался неплохим. Я пошла туда для проформы, а вернулась — с плевком в душу.
Там пахло Манежем, девушки были худыми и длинными, как самолеты-истребители, и это было то, зачем приходили туда мужчины. По наивности я захотела выйти представиться клиентам без обуви в черных чулках, но домоправительница была категорически против. Это заставило меня вспомнить себя двумя годами ранее в том обклеенном дорогими материями клоповнике: как я надевала неудобные туфельки, чтобы пойти пожать руку какому-то типу, которому хотелось пощупать искусственные сиськи и дать выколоть себе глаза акриловыми ногтями. Голос протеста рычал внутри меня на идеальном немецком: кучка нищебродов, требовать от нас носить каблуки… Носите их сами, эти каблуки, если вы считаете, что женственность только этим ограничивается, если вы думаете, что все мужики хотят женщин, по которым сразу видно, что они на работе.
В конце концов мне достался один клиент — завсегдатай Дома. Претенциозные размеры этого места буквально давили на нас, привыкших к теплой каморке, к моей музыке, к нашему запаху. Мы были сконфужены, скованны, я растерялась, не знала, где что находилось и что мне нужно было делать. Когда он ушел, и я вышла из комнаты, нагруженная грязным постельным бельем (белым и шершавым, как в гостинице, где плохо спится), домоправительница отвела меня в сторонку:
— Я заметила, что комната плохо прибрана. Посмотри сюда: вот эта подушка, ты должна поставить ее ровно, как было. Я знаю, что там, где ты работала раньше, порядки немного отличались.
Немного отличались? Да ты и представить себе не можешь, сестренка.
Перед моими глазами снова стоял Дом и записка, прикрепленная к пробковой доске рядом с ванной комнатой, там, где новенькие не преминут прочесть: «Милые дамы, здесь вы свободны в выборе вашей одежды, лишь бы она не слишком открывала ваши прелести. Выбирайте то, что идет вам лучше всего. Вы можете выходить для знакомства с клиентами на высоких каблуках, в балетках или в сандалиях, или даже босиком, как маленький эльф». Я цитирую! Эльф!
Я рассказываю вам о мире, где проститутка могла захотеть и стать принцессой, эльфом, феей, русалкой, девчушкой, женщиной вамп. Я говорю о доме, ставшем дворцом, нежным, как пристанище.
Теперь остальной мир для этих девушек — скотобойня.
Memory of a Free Festival, David Bowie
He помню, чтобы я бросала последний взгляд на что бы то ни было. С самого начала все мои прощальные взгляды были серьезными и медленными. Я всегда уходила из Дома, уверенная, что он исчезал у меня за спиной, словно сон. Так что в последний вечер, после праздника, организованного накануне переезда, я бегом помчалась к метро, отказываясь верить, что это был последний раз, упрямясь, потому что прощания возмущали меня.
В это почти невозможно было поверить: двери всех комнат были открыты, мягкий майский воздух проникал внутрь с балконов, на которых толпились курящие. Зал оставили для Дезирэ, у нее были слабые легкие, не выносившие облаков табачного дыма.
Из маленькой аудиосистемы, включенной в саду, доносилась музыка: она звучала очень громко. Пришло более пятидесяти девушек: все те, кого я знала, и Другие — легенды, чьи имена все еще прочитывались на шкафчиках и в списках, но прекратившие эту работу уже давным-давно. Пришли мои коллеги в гражданском и элегантно одетые женщины, ставшие респектабельными. Наряды — под стать их новой работе. Они пришли из лояльности, потому что, даже обзаведясь статусом честных гражданок, они носили в сердце огромную благодарность за то, как хорошо прошли те годы, что они работали здесь. Несмотря на то, что в конце им осточертело, несмотря на желание быть нормальными, несмотря на желание забыть самим и заставить забыть всех остальных, что им платили за то, что они сосали члены. И эти женщины в костюмах, лишь перешагнув через порог тяжелой бронированной двери, вновь приобретали покачивающуюся походку. В пурпурном свете зала их строгие одеяния казались костюмами секретарш, надетыми с целью соблазнить делового мужчину, который не осмеливается трахнуться со своей. Аннет, ассистентка в адвокатской конторе, осматривала сад своими огромными глазами, несомненно, вспоминая пять лет собственной жизни, будто это была выдумка, какой-то очень реалистичный сон, который она никогда никому не перескажет.
Теперь, когда телефон больше не трезвонит, девушки громко разговаривают, не боясь, что соседи услышат их. Я ищу глазами Полин, но она так и не придет. Замечаю Хильди, которая следует за мной, чтобы выкурить косячок на балконе Желтой комнаты.
— Своего первого клиента я приняла здесь, — говорит она, не удостаивая взглядом комнату с закрытыми шторами, откуда еще не вынесли мебель.
Она рассматривает балкон, на котором нам раньше не случалось оказываться. Напротив, с другой стороны улицы, мы видим квартиры. В одной из них какой-то тип с биноклем прячется за шторами, надеясь разглядеть голую плоть.
— Смешно, вчера один мужчина спросил меня, как это было — мой первый раз с клиентом. Я была бы рада рассказать ему что-то захватывающее вроде несравненного шока, внезапного раздвоения моей личности — в общем, то, что себе воображают мужчины. Но этот опыт ничего особенного со мной не сделал. Либо я действительно была в состоянии шока и мне было недосуг быть больно задетой или испытать отвращение, либо же я устроена не так, как другие женщины, — не знаю. Мне это показалось легким. Я была удивлена, что не почувствовала себя грязной. Что-то говорило мне, что надо бы. С моего первого заработка я купила себе чулки и обувь. Эти деньги не пахли иначе, чем пахнут любые заработанные тобой деньги.
Казалось, Хильди призадумалась, а потом улыбнулась:
— Они пахли лучше.
Я провела два года, думая, что мне стоило бы чувствовать себя грязной, виноватой, униженной. Два года я спрашивала себя, откуда были эти потоки радости при выходе из метро, когда стояла такая хорошая погода, что стекла удаленных зданий, окружавших Дом, ослепляли меня отражением солнечных лучей.
Два года я с восхищением рассматривала в витринах магазинов, как мое собственное отражение гордо несет голову, чувствовала такую легкость в теле, видела мир таким спокойным и полным обещаний.
Наверное, это было связано с большим количеством денег в кармане. Я прожила два года без каких-либо финансовых проблем, забивающих голову. Единственным, что отбрасывало тень на мое счастье, было вот это самое отсутствие вины, даже гордость, а значит, мысль, что я не была нормальной и никогда не смогу вписаться в общество. Я постоянно несла на своих плечах груз пренебрежения и смущенного сочувствия, которые