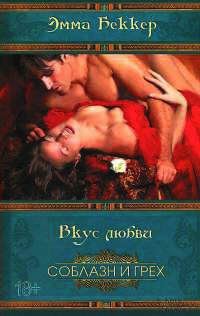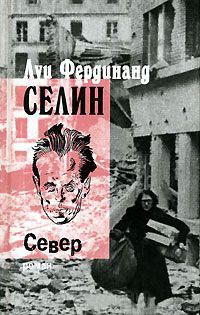Книга Дом - Эмма Беккер

- Жанр: Классика / Эротика
- Автор: Эмма Беккер
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала
В романе «Дом» Беккер рассказывает о двух с половиной годах, проведенных ею в публичных домах Берлина под псевдонимом Жюстина. Вся книга — ода женщинам, занимающимся этой профессией. Максимально честный взгляд изнутри. О чем думают, мечтают, говорят и молчат проститутки и их бесчисленные клиенты, мужчины. Беккер буквально препарирует и тех и других, находясь одновременно в бесконечно разнообразных комнатах с приглушенным светом и поднимаясь высоко над ними. Откровенно, трогательно, в самую точку, абсолютно правдиво. Никаких секретов. «Я хотела испытать состояние, когда женщина сведена к своей самой архаичной функции — доставлять удовольствие мужчинам. Быть только этим», — говорит Эмма о своем опыте. Роман является частью новой женской волны, возникшей после движения #МеТоо.
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дом - Эмма Беккер», после закрытия браузера.