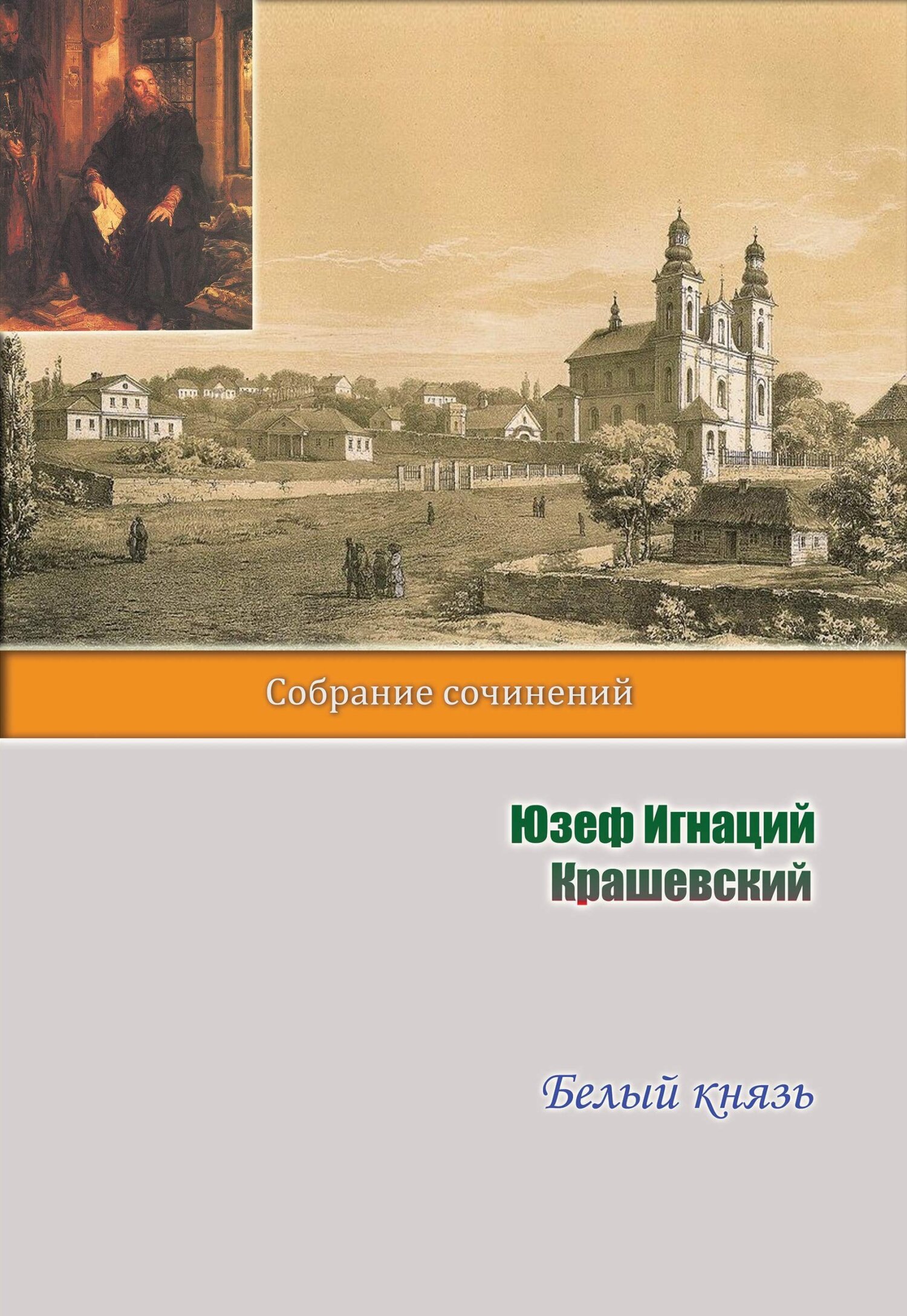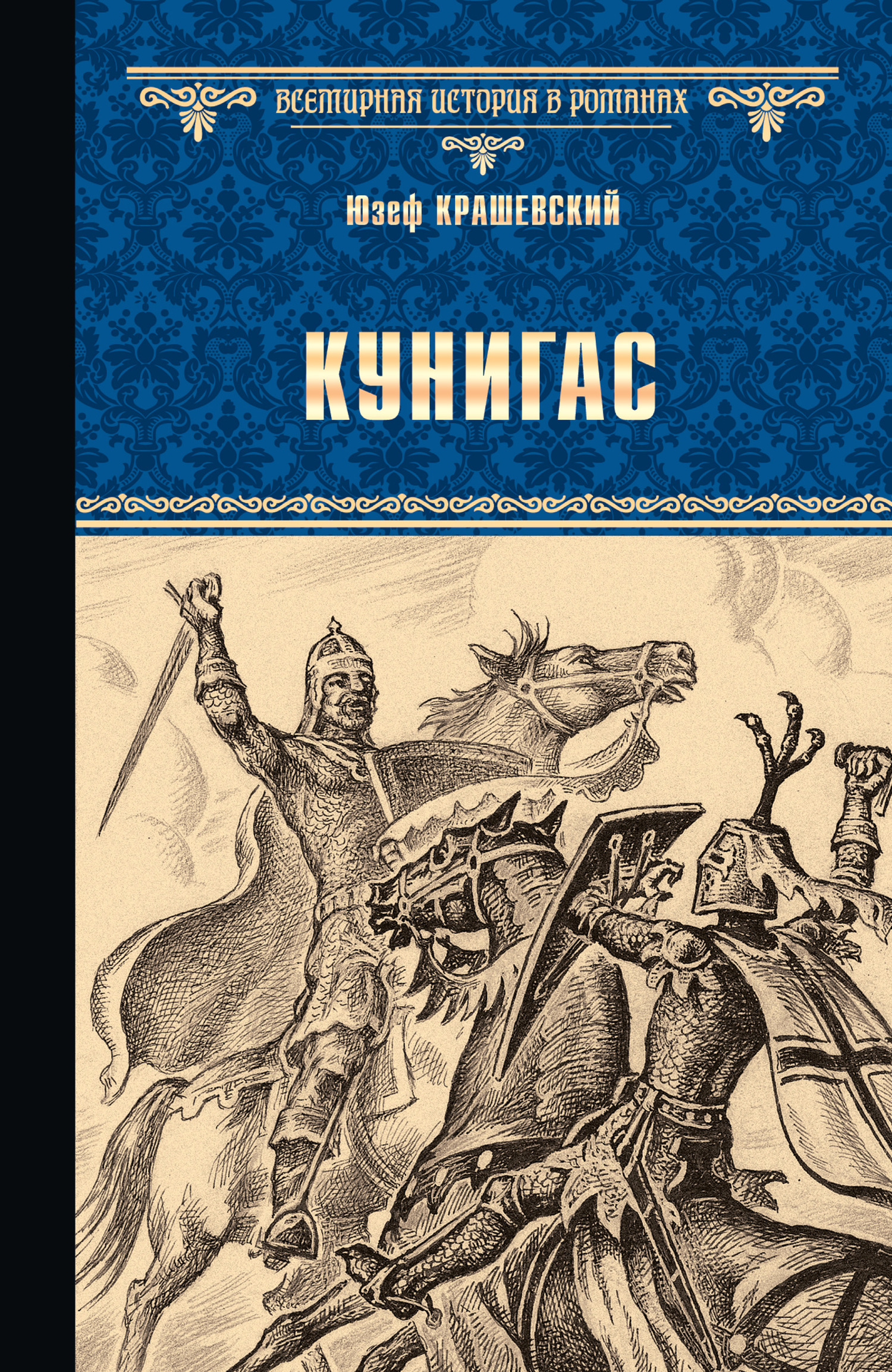котором сложили тела павших, в тихий дворец Замойских, в котором Земледельческое общество совещалось над восстановлением утраченного положения, не над спасением родины – родину для них представлял комитет.
Тем временем Ендреёва, как только улеглось, побежала посмотреть на сына, протиснулась как-то до дома и упала на пороге, найдя комнатку пустой. Никто не знал, что случилось с Франком. Матери пришло на ум, что его русские с утра нашли и забрали, ибо не могла допустить, что сам вышел.
Не могли ей тут о нём ничего поведать; цирюльник Федеровский клялся, что до белого дня его стерёг, позже никто не знал о нём, а русских в доме и полиции не было. Старушка лежала на лестнице, руки опрокинула на пол, голову на них повесила и плакала, рыдала, бедняга.
С другой стороны Анна, тоже беспокойная, с рассказом о победе шла к Франку, а вместо него нашла мать, лежащую и болезненно стонящую на пороге.
– Что же случилось? Францишек? Где Францишек? – воскликнула она, бледнея.
– Нет его! Нет! – крикнула мать с выражением трагической боли, которую только отчаяние добывает из груди человека. – Не знаю, никто не знает, что случилось. Пойдём, панна Мария! Пойдём! Пойдём искать между трупами… Вы знаете, кто убит? Или нет! В Замке! В цитадели! Может, его русские схватили. А! Я несчастная! Я ничего не знаю.
Анна с заломленными руками стояла перед этой великой болью материнства, при которой бледнело её собственное отчаяние, почти не веря глазам и ушам. Неудержимые слёзы вдруг вырвались из её груди к глазам, а с ними крик:
– О, мой герой! Даже боль не смогла приковать его к ложу. Пойдём его искать, пойдём! – воскликнула она живо. – Дайте мне руку, моя пани, пойдём вместе, ничего нам не сделают… мы должны найти его. Но как же он встал? Как сумел выйти? Никто его не видел, не задержал?
– Никто, никто! – повторила, поднимаясь, мать.
На эту трогательную сцену прибежал повторно снизу Федеровский.
– Ну, кто бы это подумал! – воскликнул он. – Если бы я знал, я бы его на ключ закрыл.
– Он бы из последних сил двери выломал! – ответила Анна. – Но ничего больше не знаете о нём?
– Ничего не знаю, бегал расспрашивать… никто не может ничего поведать, видел его только мальчик, как плёлся ещё перед выстрелом и стоял бледный под каменицей Малча!
– А! Там, где этих двоих убили!
Женщины молчали.
– Пойдём! – прервала мать. – Идём, скорее, я должна найти его, увидеть. Он не мог умереть, он живёт, он мучается, а меня там нет при нём!
– И меня! – тихо добавила Анна.
В отчаянии обе несчастные женщины поплелись вместе по улице к Европейскому отелю, который охранял молчаливый отряд всадников. Несмотря на это, около него было много снующих фигур. Город был успокоен как бы насилием, которое как бы сам себе причинил, на улицах пусто, солдаты, униженное собственным преступлением, какие-то молчаливые экипажи в темноте туманной ночи проскальзывали к Ресурсу и по Краковскому Предместью. У отеля конница преграждала дорогу, но на стон, который вышел из уст Ендреёвой, шеренги открылись и женщин впустили, догадываясь о какой-то боли, которую ещё в эти минуты уважали.
Анна и Ендреёва вошли в дверь и с тихой, но в то же время неспокойной толпой вошли в помещение, в котором лежали трупы. Там царила торжественная тишина. Немного света, несколько нахмуренных человек, молчащих, на страже, посередине тела пяти мучеников с окровавленной грудью. Засохшие раны едва были видны; на пожелтевших лицах виднелось выражение боли, с которым оставили свет. Удивительной иронией судьбы в этих февральских мучениках были избранники из всего общества, как бы специально назначенные жертвы: шляхтич, рабочий, студент, юноша, старец, мальчик.
Эти открытые останки, охраняемые незнакомыми людьми, охраняемые по доброй воле, пробуждали чувство какого-то страха, которым все были пронизаны, торжестенная тишина ночи ещё её увеличила. Ендреёва и Анна забыли немного о собственном страдании рядом с этими жертвами, рядом с которыми не было семьи, только народ, признающий их своими избранными детьми. Но их взгляд, пробежав по трупам, принёс утешение в сердце – Франка между ними не было, короткая радость; рядом они услышали шепчущих и рассказывающих друг другу, что полегло гораздо больше жертв, но кучи их были убраны и с камнем у шеи брошены в Вислу, а раненых русские схватили, чтобы поместить в тюремный госпиталь.
Ендреёва снова почувствовала сжимающееся сердце, глаза Анны затмились пламенем возмущения; но обе онемели от этого вида и не могли рта открыть. У них был хоть лучик бледной надежды, а те, которым эти застывшие останки принадлежали – матери, отцы, жёны, сестры… не имели уже никакой. Ендреёва, остыв немного, опустилась на колени молиться. Какой-то высокий мужчина медленно подошёл к ней.
– Моя пани! – сказал он серьёзно. – Не нуждаются они в нашей молитве, их мученические души там, на небе, что-нибудь для нас и родины выпросят.
Старушка начала плакать, Анна дрожала; почувствовала в себе тот пыл, который женщин превращает в героев. Она поняла в эти минуты то, чего не могла понять никогда, – что и слабая женщина может схватиться за оружие, как та черногорская мать, что, потеряв троих сыновей, из рук последнего схватила хоругвь. В голове у неё закружилось.
Прикованные к этим останкам, разодранные груди которых так много говорили о родине, обе женщины стояли, не зная, что делать. Наконец Анна легко толкнула старушку и сказала ей:
– Пойдём! Кто-нибудь из товарищей должен был его видеть. Пойдём, моя пани… вам это только разрывает сердце.
Почти в эту же минуту через толпу, которая всю ночь возле останков несла стражу, чтобы их не похитили, протиснулся Млот с перевязанным лицом. Не заметил он Ендреёвой, но она его схватила за руку и дрожащим голосом спросила как Каина:
– Мой сын!.. Мой сын… Что ты сделал с моим сыном?
Бледный, уставший молодой человек обернулся; нужно было какое-то время, чтобы он опомнился и узнал женщину; он был взволнованный, изнурённый, смешанный, но торжествующий. Ему пришло в голову, что на минуту он видел Франка; но перед матерью он признал это необходимым утаить.
– Что же случилось? Он вышел?
– Вышел, видно, на улицу, услышав шум. Нет его дома, никто ничего не знает.
Млот молчал, Ендреёва снова плакала.
– Идите, пани, отсюда! – сказал он тихо. – Смотреть на это нельзя долго. Сойдём вниз, там есть такие, которые нам, может, о нём поведают.
И привёл её в залу, в которой, шепча, лихорадочно разговаривая, прохаживалась бурлящая толпа, раскачивающаяся как волна, советовалась и была беспокойной. Млот побежал к одному из