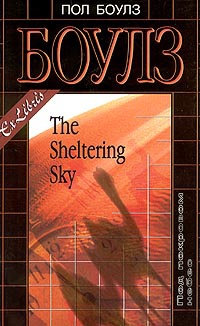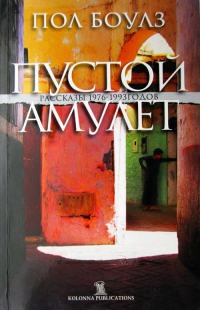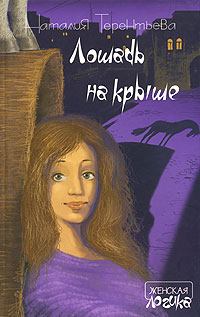Амару было неприятно это слышать. На мгновение он впился глазами в лицо своего нечестивого покровителя.
— Она единственная, — ровным голосом ответил он. Потом улыбнулся. — Но теперь мы все как животные. Взгляните только, что делается на улицах. Вы думаете, это мусульмане виноваты?
По быстрому взгляду мужчины он понял, что вызвал у него что-то вроде уважения.
— Кое в чем есть и вина мусульман, — невозмутимо сказал он, — но мне кажется, куда больше виноваты французы. Ты ведь не станешь слишком сурово судить человека за то, что он сделал с тем, кто ворвался в его дом?
Настала очередь Амара отвечать.
— Аллах все видит, — сказал он, но какой-то внутренний голос нашептывал ему, что назарею его ответ покажется пустой отговоркой. Если он хочет, чтобы искра уважения, которую ему удалось разжечь, не погасла, придется хорошенько постараться. — Французы в нашем доме как воры, вы правы, — согласился он. — Мы позвали их, чтобы они нас кое-чему научили. Мы думали, они преподадут нам урок. Но они так ничему и не научили нас — даже не сделали из нас хороших воров. Поэтому-то мы и хотим их выгнать. Но теперь они считают себя хозяевами, а нас — слугами. Что нам остается, как не сражаться? Так предначертано.
— Ты ненавидишь их? — спросил мужчина; он по-прежнему сидел, наклонившись к Амару и пристально на него смотрел. Сейчас они были один на один; если мужчина окажется шпионом, у него, по крайней мере, не будет свидетелей. Но, думая так, Амар сам понимал, что это крайность: сам он считал себя всего лишь случайным зевакой.
— Да, я ненавижу их, — бесхитростно ответил он. — И это тоже предначертано.
— То есть, ты хочешь сказать, что должен ненавидеть их? И не можешь решить сам, ненавидеть тебе их или нет?
Амар не понял, что он имеет в виду.
— Но я ненавижу их сейчас, — пояснил он. — Когда настанет день и Аллах пожелает, чтобы я перестал их ненавидеть, Он совершит перемену в моем сердце.
Мужчина чему-то задумчиво улыбался.
— Если мир таков, — сказал он, — то жить в нем должно быть просто.
— Жить никогда не просто, — непреклонно ответил Амар. — Er rabi mabrhach. Всевышний не терпит простоты.
Мужчина ничего не ответил. Скоро он встал, подошел к открытому окну и остановился, глядя на медину, лежавшую внизу под покровом тьмы. Когда он повернулся и снова заговорил, показалось, что в беседе не было перерыва.
— Итак, ты ненавидишь их, — пробормотал он. — А тебе не хочется убивать их?.
Амар мгновенно насторожился.
— Почему вы спрашиваете меня об этом? — обиженно спросил он. — Зачем вам знать, что я думаю? Это нехорошо в такие времена.
Амар постарался, чтобы на лице его ничего не отразилось, чтобы не было видно, насколько он возмущен, но это явно не удалось, потому что мужчина снова сел в кресло и принялся долго извиняться перед ним по-арабски, делая ошибки на каждом шагу, так что Амар далеко не всегда был уверен, что понимает его речи. Лейтмотивом, однако, было то, что христианин вовсе не собирался совать нос в личную жизнь Амара, а только хотел понять, что происходит в городе. Амару подобное объяснение показалось совершенно неудовлетворительным; если это правда, то почему мужчина допытывался, что он думает?
— Что я думаю о беде, которая пришла, — произнес он наконец с оттенком горечи в голосе, — значит меньше, чем ветер. Я даже не умею читать или написать свое имя. Какой от меня прок?
Но даже это признание, давшееся ему нелегко, казалось ничуть не убедило мужчину, который, вместо того, чтобы довольствоваться им и переменить тему, определенно выглядел довольным, узнав о позоре Амара.
— Ага! — воскликнул он. — Tenepь-то я понимаю! Отлично! Стало быть, тебе некого бояться.
Последнее замечание особенно встревожило Амара, так как явно означало, что мужчина собирается отправить его обратно. Назарей ничегошеньки не понял; Амар поник духом, как только увидел, какая пропасть лежит между ними. Если назарей, даже такой доброжелательный и знающий по-арабски, был неспособен уловить суть столь простого дела, то разве можно мусульманину рассчитывать на помощь остальных назареев? Но все же отчасти Амар сохранял уверенность в том, что на этого мужчину можно положиться, что он может стать настоящим другом и защитником, если только показать ему как.
Беседа продолжалась, но теперь походила на игру, участники которой, устав и утратив к ней интерес, перестали вести счет и даже не обращали внимания, у кого какие фигуры.
Взаимопонимания как не бывало; взоры их, казалось, устремлены в совершенно разные стороны, они говорили каждый сам с собой, вкладывая разный смысл в одни и те же слова. К счастью, в дверь постучали, и мужчина бросился открывать. Появилась женщина, одетая на сей раз более скромно и, похоже, очень довольная собой. Она вошла, села и начала без умолку тараторить, в то время как Амару становилось все скучнее, и все сильнее мучил его голод. Когда снова постучали, он поднялся, быстро подошел к окну, перегнулся через подоконник, и стоял так, дожидаясь, пока слуга, принесший поднос, выйдет и закроет дверь. Пока он стоял, взгляд привык к темноте, и Амар смог различить за тысячью лепившихся друг к другу домишек внизу, во мгле, мечеть, стоявшую на холме прямо за его домом. А на востоке, за размытыми силуэтами гор, в ясном небе было различимо свечение, предвещавшее появление луны.
Из комнаты доносилось звяканье стаканов, мужчина и женщина все о чем-то говорили и говорили. Амар подивился, откуда у мужчины столько терпения, чтобы без конца разговаривать с ней. В конце концов, рассуждал он, если бы Аллах пожелал, чтобы женщины вели беседы с мужчинами, он и сделал бы их мужчинами, наделив разумением и проницательностью. Но в Своей бесконечной мудрости Он создал их, чтобы они прислуживали мужчинам и повиновались им. Мужчина, позабывший об этом, позволивший настолько сбить себя с толку, чтобы по собственной воле так охотно общаться с женщиной на равных, рано или поздно горько пожалеет об этом. Ибо женщины, какими бы привлекательными они ни казались, по самой сути своей были злыми, свирепыми существами, жаждавшими одного — принизить мужчин до своего собственного ничтожества и созерцать их муки. В Фесе частенько говаривали, отчасти в шутку, что если бы марокканцы действительно были цивилизованными людьми, то изобрели бы специальные клетки, чтобы держать в них женщин. Женщины и так слишком распустились, к тому же националисты собирались предоставить им еще большую свободу: разрешить ходить одним по улицам, посещать кинематограф, сидеть в кафе и даже купаться на виду у всех. Но самое невероятное было то, что они, в конце концов, намеревались приучить их обходиться без литхама и появляться на людях, открыв лица, как еврейки и христианки. Конечно, такого никогда случиться не могло, ведь даже проститутки, выходя за покупками, надевали чадру, но характерным для нынешних времен было то, что некоторые националисты отваживались открыто говорить о подобных вещах.
— Fik ej jeuhor? — скоро позвал его мужчина. — Проголодался?