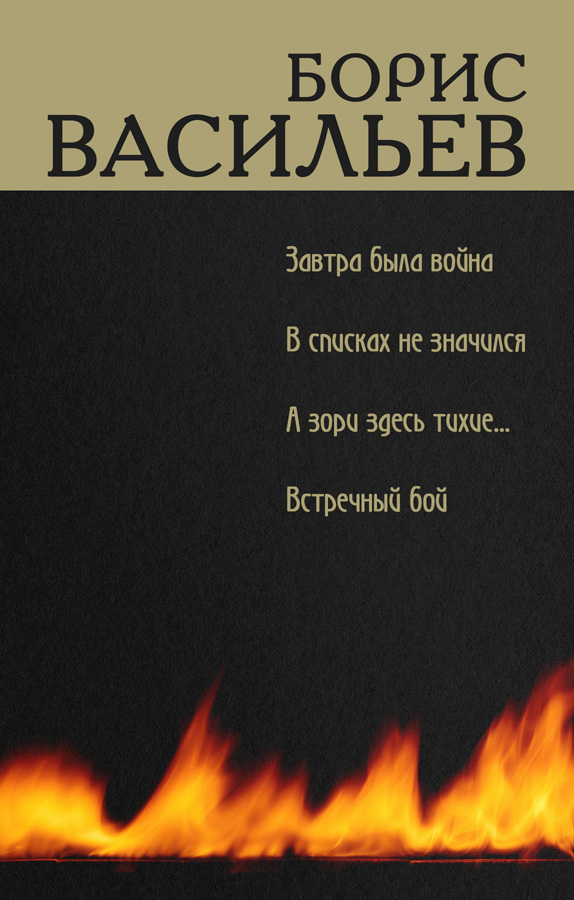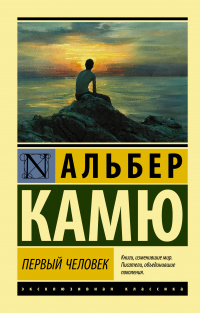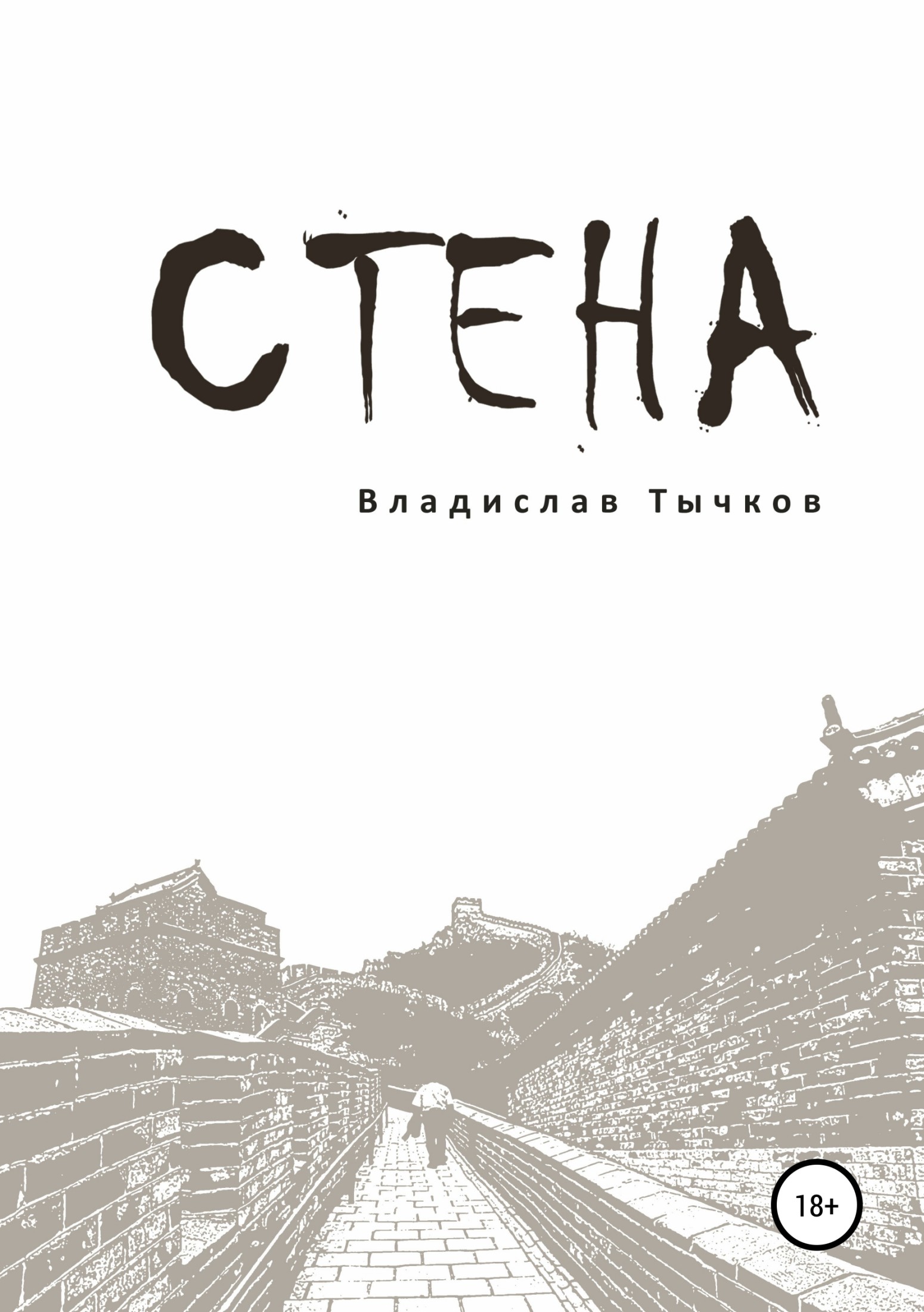нас, вообще-то, есть коровы.
— Я говорила с ними, когда ходила гулять.
— Когда я был маленьким, мой отец держал коров.
— Правда?
— Да, у него было шесть коров и сорок поросят… включая меня.
Я смеюсь и падаю на диван, обнимая подушку.
Бопа как будто прикидывает, говорить ли дальше.
— Однажды в Италии… во время войны… я получил приказ… — Он смотрит в пол и хмурится.
Я молчу.
— Мой эскадрон захватил трех партизан. Командир приказал вывести их в поле… там росла такая трава, что в ней можно было самому потеряться. Он приказал мне расстрелять их.
— И что вы сделали? — У меня холодеют руки.
— Вывел их в поле. День был ясный, и я велел им лежать тихо до ночи, а потом трижды выстрелил в воздух.
— Не всем правилам нужно подчиняться. — Мне становится легче.
— Нет. — Он поднимает палец. — Но большинству — надо. Запомни это.
Мы одинаково наклоняем голову вперед, выражая свое упрямство.
— Ты должна научиться быть нормальной. Когда твоя мать сбежала, она забрала у нас все. Внуков, вообще все.
Я не собираюсь с ним ссориться и осторожно говорю:
— Ну, все было чуть сложнее.
Он сжимает кулаки, превращаясь из доброго дедушки в грозное чудовище:
— Она нарушила закон, купила фальшивый паспорт! Твой отец преступник! Они растили вас, как траву, без всякого образования…
— Бопа, не будем об этом. — Я расправляю плечи. — Вы сказали, что отнимете у нее детей, вот ей и пришлось бежать.
— Она врала о том, где находится, когда звонила. Всегда врала. Но я выслеживал ее! У меня есть записи. — Он машет рукой в сторону полок, заваленных кассетами. — Я записал все лживые слова твоей матери.
— И соврали насчет этого. — Мне надоело быть хорошей.
— Что?
— Она слышала щелчки на линии, но вы говорили ей, что ничего не записываете. Как она могла говорить вам правду, если каждый разговор начинался с обмана?
— Она уничтожила все! Она…
— Стоп! — Я устало поднимаю руку. — На этом все.
— Твоя мать…
— Да, она моя мать. И я не пойду против нее. Ни ради вас, ни ради кого-то другого. Никогда.
Он открывает рот, чтобы возразить, но я его перебиваю:
— Если мы хотим подружиться, не делайте этого. В мире много вещей, насчет которых у нас разные мнения.
Он злобно трясет головой, но молчит. А я не говорю о том, что они с бабушкой решили не прерывать общение с Кьярой. Что он все еще посылает ей деньги. Мне сложно понять, что им это нужно, хотя бы ради памяти о ее детстве.
— Мне необходимо забыть об этом. — Я тру веки рукой. — Правда. Так что если вы тоже готовы это сделать, просто скажите.
Все доказательства, которые требовал суд, и даже больше, переданы моим адвокатом прокурору. Дело это должно наконец закончиться, должно быть вынесено финальное решение. Нам остается только ждать — возможно, несколько месяцев — пока другие решат, есть ли у меня шанс на гражданство.
Когда мы выходим из офиса юриста в центре города, мама отводит меня в сторону и протягивает лист бумаги. На нем что-то написано по-итальянски. Я так сосредоточилась на суде, что никак не могу понять, что это.
— Это договор с языковой школой в Риме, — улыбается она. — Ты говорила, что хотела бы там учиться.
До меня медленно доходит, что она имеет в виду.
Я всегда любила свою мать, но только здесь начала понимать ее и уважать мужество, которое потребовалось, чтобы сбежать, когда тебя растили в страхе. Даже сейчас, сидя в холодной мансарде родительского дома — большинство людей назвали бы это поражением, — она медленно строит жизнь заново. Преподает языки, откладывает деньги — достаточно, чтобы подарить мне то, что я считала недоступным. Сколько я себя помню, с того мгновения, как я начала себя осознавать, я беспокоилась за мать. Думала, как бы ее защитить. И только сейчас мне кажется, что я уже могу этого не делать.
Ничто не идеально. Но моя война закончена.
Занимается рассвет того дня, когда я должна улететь. Я целую Тигру в сладко пахнущий лобик и тащу чемодан к машине, где уже ждет мама. Густой туман плывет над лужайкой, скрывая траву, и я оборачиваюсь на звук. Бопа идет за мной в халате поверх пижамы.
— Так и не сняла мотоциклетные ботинки. — Он опирается на трость.
— Так и не перестали критиковать. — Я складываю руки на груди.
— Ты мятежница.
— А вы коп.
Мы стоим вдвоем и смотрим на маленькие одинаковые домики. Он мнется, постукивает тростью, а потом наконец говорит:
— Как думаешь, мятежники и копы могут дружить?
Против собственной воли я вспоминаю, как боялась попасться ему на глаза, когда чувствовала себя просто напоминанием о мужчине, которого он ненавидит. Эта рана все еще болит, и я хочу наказать его, хочу, чтобы он понял, как это больно, как мне было одиноко и страшно. А потом вспоминаю, что сказала мне мама: он попросил разрешения платить за мое жилье, пока я буду учиться. Бопа смотрит на свои тапки, сдерживая слезы, пытаясь взять себя в руки. Но наконец бросает эти попытки.
— Не знаю, бопа, — говорю я, устало опуская плечи. — Но это будет не самым странным из всего, что нам доводилось делать.
Глава 46
Рим, 27 лет
Раннее римское утро прохладно и пахнет эспрессо и свежими корнетти. Пантеон почти пуст. Я всегда выхожу из своей крошечной квартирки задолго до начала занятий и заглядываю сюда. Мне сложно поверить, что я могу просто так, закинув на плечо рюкзак с книгами, зайти в древний храм, который простоял две тысячи лет. Как и всегда, я сажусь на скамью под отверстием в куполе и откидываю голову назад. Чистый свет нового дня образует в воздухе золотой столб. Две тысячи лет! Сначала языческий храм, потом церковь, а теперь я могу просто закрыть глаза и чувствовать, как сердце начинает биться медленнее — здесь это всегда случается.
Не успевают часы пробить девять, как я выбегаю на улицу, машу охраннику и иду мимо сената к школе. Моя любимая одноклассница Мелисса стоит снаружи и с виноватым видом дописывает домашнее задание.
— Ты все сделала или опять в Пантеоне сидела?
Я улыбаюсь, встаю рядом с ней и начинаю переписывать ответы.
Даже когда мы сидим в классе и учим новые слова, я не могу перестать смотреть на город. Я выглядываю в окно и вижу резной камень здания напротив, а внизу множество небольших кафе. Но самое волшебное