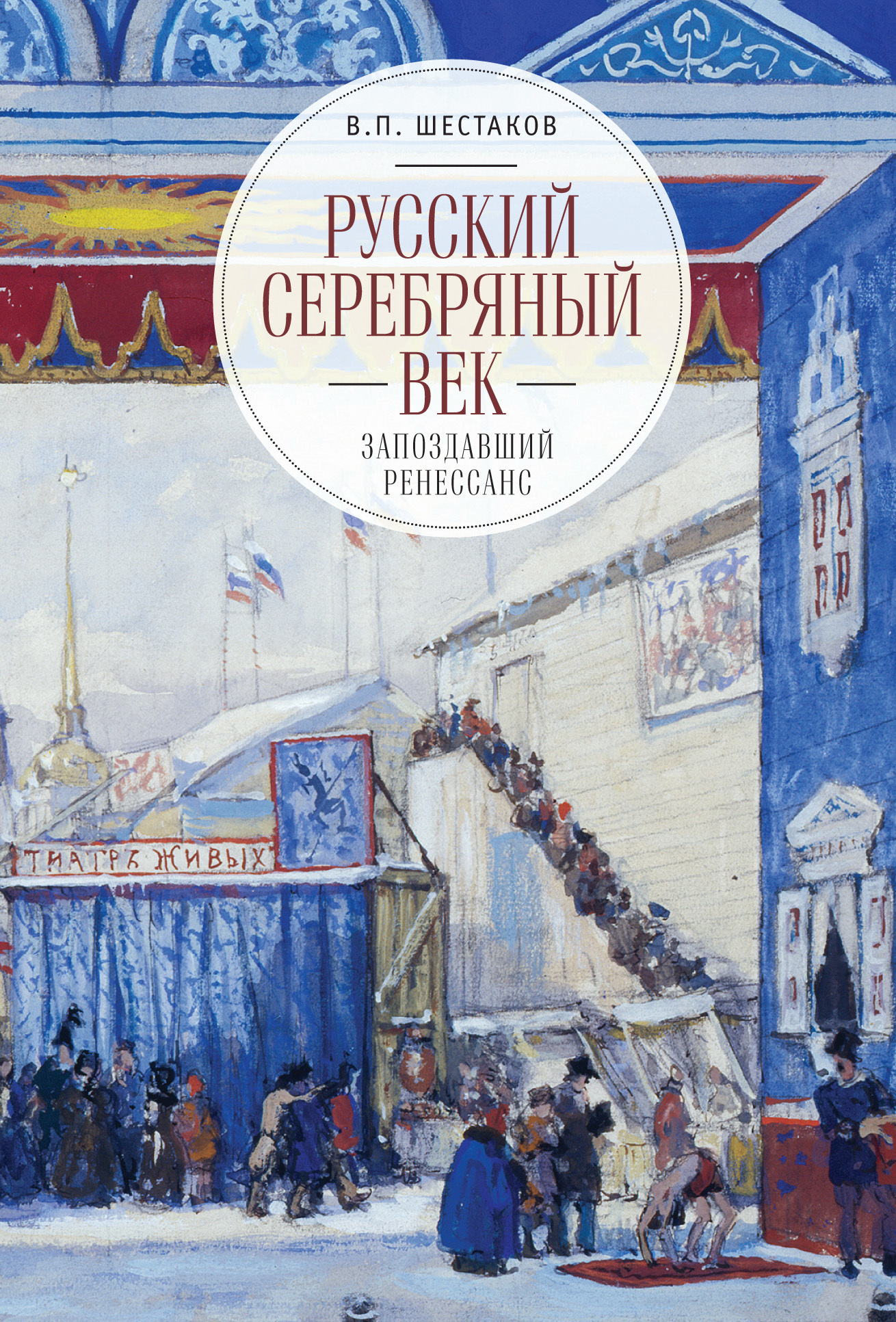литература; «еврофестивали» и «евровыставки», «еврожурнализм» и «евротелевидение». Однако эта Европа безжалостно перекраивает ту Европу, которую я люблю, полифоническую культуру, в традициях которой (по крайней мере, в некоторых из этих традиций) я творю, и чувствую, и мыслю, и преисполняюсь тревоги, ту Европу, на лучшие, внушающие трепет принципы которой я пытаюсь равняться.
Разумеется, Америка не вполне отъединена от Европы, хотя и гораздо менее похожа на Европу (она более «варварская»), чем хотелось бы думать многим европейцам. И хотя у меня, как у большинства моих соотечественников (сегодня это большинство сокращается), европейские корни (у меня, говоря точнее, европейско-еврейские корни – мои предки во втором поколении иммигрировали в северо-восточные штаты столетие назад из сегодняшней Польши и Литвы), я нечасто думаю о том, что именно Европа означает для меня как для американки. Я думаю о том, что Европа означает для меня как для писательницы, для гражданки литературы, – а это всемирное гражданство.
Если бы мне довелось рассказать, что означает Европа для меня как для американки, я начала бы с освобождения. Я подразумеваю освобождение от того, что в Америке выдается за культуру. Многообразие, серьезность, изощренность, плотность европейской культуры представляют собой архимедову точку опоры, посредством которой я могу мысленно перевернуть землю. Мне не удается проделать это из Америки, исходя из того, что дает мне американская культура – как собрание норм, как наследие. Следовательно, Европа существенно важна для меня – она более существенна, чем Америка, хотя всё то время, что я провела в Европе, всё же не сделало из меня экспатрианта.
Конечно, Европа означает нечто гораздо большее, чем идеальное многообразие, чем потрясающий воображение пир… эти наслаждения, эти нормы. Как древняя реальность, по меньшей мере с латинского Средневековья, и как вечное, часто лицемерное устремление «Европа», звучащая будто современный клич за политическое объединение, неизменно вела к подавлению и стиранию культурных различий, а также к усилению и централизации государственной власти. Нелишне вспомнить, что панъевропейский идеал провозглашал не только Наполеон, но и Гитлер. Нацистская пропаганда во Франции в годы оккупации была во многом направлена на изображение Гитлера как спасителя Европы от большевизма, от русских, или «азиатских», орд. Идея Европы часто отождествлялась с защитой «цивилизации» от чужаков, иноземцев. Обычно защита цивилизации сводилась к распространению военной мощи и деловых интересов одной европейской державы, которая соревновалась за власть и богатства с другими европейскими державами. Помимо эпонима цивилизации (ведь это измерение Европы тоже невозможно отрицать), «Европа» обозначала идею моральной обоснованности господства некоторых европейских государств над огромными частями мира, которые к Европе не принадлежали. Стремясь убедить неевреев в желательности создания еврейского государства в Палестине, Теодор Герцль заявлял: «…мы образуем крепостную стену Европы против Азии и выполним роль культурного авангарда в столкновении с варварами». Я процитировала эту фразу из Еврейского государства Герцля не в целях, собственно говоря, поношения Израиля (в настоящее время так поступают все), а подчеркивая тот факт, что практически каждый акт колонизации в XIX и начале ХХ века европейской страной оправдывали как расширение моральных границ «цивилизации» – понимаемой как синоним европейской цивилизации – и как отвращение от границ Европы полчищ варваров.
На протяжении долгого времени сама идея универсальных ценностей, всемирных институтов была евроцентричной. В известном смысле весь мир некогда был евроцентричным. Эта Европа – «вчерашний мир», словно название, которое Стефан Цвейг дал своему облеченному в форму мемуаров плачу по Европе, своей последней книге, написанной спустя почти полвека после того, как этот выдающийся благородный европеец был вынужден бежать из Европы, бежать от триумфального варварства, которое было порождено – нужно ли повторять? – именно внутри, в сердце Европы. Можно было предположить, что понятие Европы окажется совершенно дискредитированным, во-первых, империализмом и расизмом, во-вторых, диктатом транснационального капитала. В действительности этого не произошло. (Однако не вышла из употребления и идея цивилизации – несмотря на все зверства колонизаторов, совершенных под этой вывеской.)
Сегодня идея Европы обладает наибольшей культурной живостью в центральной и восточной областях континента, где за независимость продолжают бороться граждане стран, относящихся к орбите другой империи. Я подразумеваю, конечно, споры о Центральной Европе, начало которым положило несколько лет назад влиятельное эссе Милана Кундеры и которые были развиты в эссе и манифестах Адама Загаевского, Вацлава Гавела, Дьёрдя Конрада и Данило Киша. Для поляка, чеха, венгра, югослава (даже для австрийца или немца, хотя и по другим причинам) идея Европы обладает, по очевидным причинам, первостепенным значением. Безусловная ценность культурной, а в конце концов и политической гипотезы существования Центральной Европы – и в расширительном смысле вообще Европы – это добиться на континенте мирного урегулирования, которое покончит с соперничеством великих держав, взявших всех нас в заложники. Сообщить пористость краям двух империй по линии их соприкосновения в Европе соответствовало бы интересам каждого. Я имею в виду каждого человека – вкладывая в это понятие всё множество людей, которые полагают, что их правнукам должно быть позволено иметь правнуков. Дьёрдь Конрад отмечал: «До тех пор пока из Вены в Будапешт невозможно приехать на оперный спектакль без специального разрешения, невозможно утверждать, что мы живем в состоянии мира».
Способны ли мы предложить нечто сопоставимое с романтическим проектом центральных европейцев о Европе малых народов, способных свободно общаться, полномочно объединять свой опыт, великую гражданскую зрелость и культурную глубину, которые были приобретены ценой таких страданий и лишений? Для нас, способных без получения специального разрешения перепорхнуть с континента на континент для посещения оперного спектакля, – может ли Европа представлять подобную ценность? Или же идеал Европы отжил свое из-за нашего богатства, нашей свободы, эгоизма и корыстности? Безнадежно ли утрачена для нас эта идея?
В известном смысле наш опыт представляется цельным, возможно, по причине упадка европейского влияния по обе стороны водораздела между империями. Новая идея Европы соотносится не с расширением, но с сокращением. Речь идет о европеизации самой Европы, а не остального мира. Среди поляков, венгров или чехов «Европа» – это вполне прозрачный лозунг, призывающий к ограничению власти и культурной гегемонии неповоротливых, удушливых русских оккупантов. Сделайте Европу… европейской. Напротив, в богатой Европе, где мы не жалуемся на разъединенность, болит другая рана. Не то что Европу нужно сделать европейской, европейской ее необходимо сохранить. Очевидно, что эта битва уже проиграна. Если высокообразованные европейцы в центральной части континента страдают от абсурдной изолированности и от скудости культурных контактов, многие западные европейцы поражены непрестанным, ведущим к разъединенности потоком чуждой культурной практики. Во Франкфурте такси водят сикхи, а в Марселе возвышаются мечети. Итальянские врачи в клиниках Неаполя, Рима и Турина производят клиторидэктомию половозрелым дочерям африканских иммигрантов по просьбе их родителей. Единственными относительно гомогенными странами Европы будут бедные страны, подобно Португалии и Греции, а также центральноевропейские страны, ввергнутые в убожество