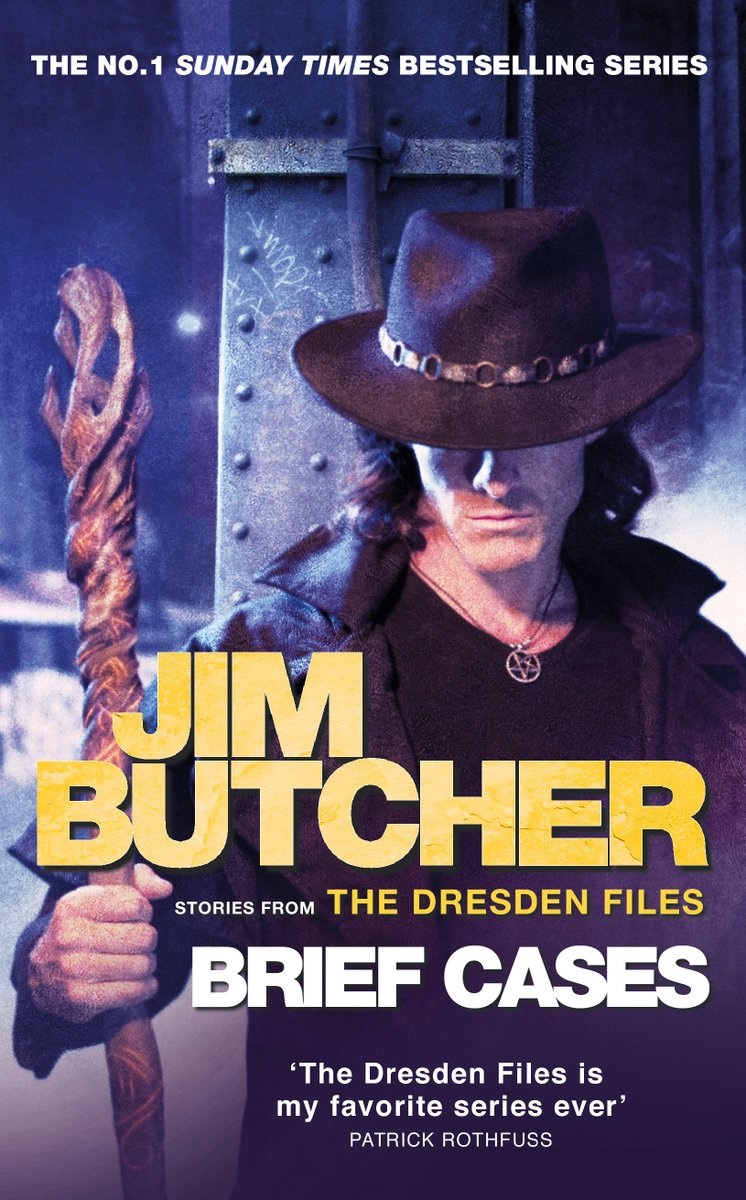слышались приглушенно. Ничего не произошло, в комнате по-прежнему стояла тяжелая тишина; испытывая одновременно облегчение и разочарование, юноши обменялись взглядами и признали, что столкнулись с очередным обманом.
В конце концов они решили не томиться дальше от скуки, а лучше уж лечь спать. Отто растянулся на матрасе и почти сразу заснул. Руперт же посидел еще немного, посасывая трубку и наблюдая сквозь разбитые стекла в окне с фигурным переплетом, как зажигаются звезды, потом перевел взгляд на затухающий огонь в камине и на причудливые тени, которые играли на заплесневелых стенах. Его внимание привлек железный крюк в дубовой балке посреди потолка – он вызывал ощущение не пугающее, но какое-то болезненное. Значит, именно на этом крюке двенадцать долгих, очень долгих лет, пока очередное лето сменялось очередной зимой, висело в странной оболочке из средневековой стали тело графа Альберта, душегуба и самоубийцы. Вначале оно слегка дергалось, затем медленно раскачивалось, меж тем как в камине затухал огонь, руины замка остывали, а перепуганные крестьяне искали тела двенадцати веселых, бесшабашных нечестивцев, приглашенных графом Альбертом на последнюю попойку, которая обернулась для них страшной и безвременной смертью. Что за непонятная и дьявольская мысль: красивый высокородный юноша, разоривший свою семью в разгульных пирах, собирает их прежних участников, блестящих мужчин и женщин, знавших в жизни только любовь и удовольствия, на последнюю, поражающую размахом и великолепием оргию и, пока они танцуют в большой бальной зале, запирает двери и поджигает замок, а затем, поднявшись в башню, слушает оттуда их душераздирающие крики, смотрит, как перекидывается с крыла на крыло пламя и вся постройка становится наконец гигантским погребальным костром. Вслед за этим душегуб облачается в прапрадедовские доспехи и среди руин того, что было недавно прекрасным и величественным замком, продевает голову в петлю. Таков был конец благородной фамилии и благородного дома.
Но с тех пор минуло уже сорок лет.
Руперта начало клонить в сон; огонь в камине затрепетал; свечи гасли одна за другой; по углам сгущались тени. Но отчего так ясно проступил из полумрака большой железный крюк? Отчего какая-то тень задергалась за ним в шутовской пляске? Отчего… Но Руперт уже ничему не удивлялся. Он заснул.
Ему почудилось, что уже в следующий миг он пробудился; в камине еще тлело пламя, хотя слабо и отдельными очагами. Отто спал, дыша спокойно и размеренно, вокруг него собрались плотные тени. Камин быстро потухал, и Руперт стал коченеть от холода. В полной тишине деревенские часы пробили два. Внезапно его бросило в дрожь от неудержимого страха, он обернулся и посмотрел на крюк в потолке.
Да, Оно было там. Он знал, что Оно там будет. Этого следовало ожидать, он даже был бы разочарован, если бы ничего не увидел; но теперь он знал, что история правдива, а он ошибался, мертвые иногда возвращаются, ибо вот они, в густом уже мраке, черные кованые доспехи, покручиваются на весу и на ржавом, потерявшем блеск металле вспыхивают отсветы. Он наблюдал спокойно, испытывая не страх, а скорее безнадежную горесть, мрачное предчувствие чего-то незнакомого и невообразимого. Он сидел и наблюдал, как этот черных доспех растворялся в плотнеющей тьме; пистолет лежал рядом на сундуке, и Руперт не снимал с него руку. Кроме ровного дыхания спавшего на матрасе юноши, ничто не нарушало тишину.
Сумрак сделался непроглядным; о разбитое оконное стекло стукнулась летучая мышь. Руперту подумалось, не сходит ли он с ума, потому что – он сам себе не решался в этом признаться – в ушах у него зазвучала музыка; отдаленная, необычная, чуть слышная, однако было понятно, что это сопровождение какого-то причудливого танца.
Подобно молнии, на голой противоположной стене вспыхнула огненная ломаная линия, стала расти вширь, и вот комнату залило неяркое золотистое зарево, высветившее все детали обстановки: пустой камин, где спиралью вился над углями дымок, огромную кровать и в самой середине, черным пятном на сияющем фоне, фигуру в доспехах – человека ли, призрак ли, демона, что стоял, а не висел под ржавым крюком. И когда раскололась стена, музыка, по-прежнему тихая и отдаленная, сделалась гораздо различимей.
Граф Альберт вскинул руку в латной рукавице и подал Руперту знак. Потом повернулся и встал в проломе стены.
Руперт молча поднялся на ноги и, сжимая в руке пистолет, последовал за ним. Пройдя сквозь мощную стену, граф Альберт растворился в неземном сиянии. Руперт, не сознавая, что делает, шагнул туда же. Он чувствовал, как крошится под ногами известка и насколько неровен край пролома, о который он, чтобы не упасть, опирался рукой.
Башня стояла среди руин совершенно обособленно, однако за стеной Руперт обнаружил длинный и неровный коридор с покоробленным, просевшим полом; стена с одной стороны была увешана большими выцветшими портретами не первоклассной работы – как в проходе, который связывает Питти и Уффици во Флоренции. Впереди черным силуэтом на все более ярком фоне ступал граф Альберт. Музыка становилась громче и причудливее – бешеный, порочный, соблазнительный танец, который одновременно отталкивал и очаровывал.
Свет вспыхнул так, что глазам сделалось больно, адская музыка загрохотала, как в Бедламе, и Руперт вышел из коридора в огромную, поражающую воображение комнату, где вначале не различил ничего, кроме бешеного круговорота белых фигур под белым светом на фоне белых стен, и только граф Альберт маячил напротив единственным темным пятном. Когда глаза привыкли к этой ослепительной белизне, Руперт осознал, что такого танца не видел, наверное, ни один живой человек и лишь грешникам в аду могло являться подобное зрелище.
По вытянутой в длину зале, под пугающим светом, который исходил неведомо откуда, но проникал во все углы, неслась в бешеном танце неизъяснимо жуткая толпа; сорокалетней давности мертвецы бессвязно лопотали, заливаясь смехом. Белые отполированные скелеты, лишенные плоти и одежд, другие скелеты, покров которых состоял из затвердевших, шуршащих сухожилий и рваных, волочившихся по полу саванов, – эти относились к прадедовским временам. Что до более свежих, то их желтые кости проглядывали лишь местами, а на безобразных головах еще сохранялись длинные неприбранные пряди волос, летевшие по воздуху, как лошадиные гривы. Среди зелено-серых чудищ, раздувшихся и бесформенных, в пятнах земли и каплях проступавшей наружу влаги, встречались кое-где образы прекрасные и белоснежные, подобные статуэткам из слоновой кости, и часто этих, вчера еще бывших живыми красавиц и красавцев сжимали в объятиях клацающие костями скелеты.
Разгульный и бесшабашный водоворот смерти кружился и кружился по проклятой зале, воздух полнился миазмами, пол усеивали обрывки саванов и желтого пергамента, фрагменты костей и клочки спутанных волос.
И в самом центре этого хоровода смерти, непредставимого и невообразимого, способного необратимо помрачить разум зрителя, – в