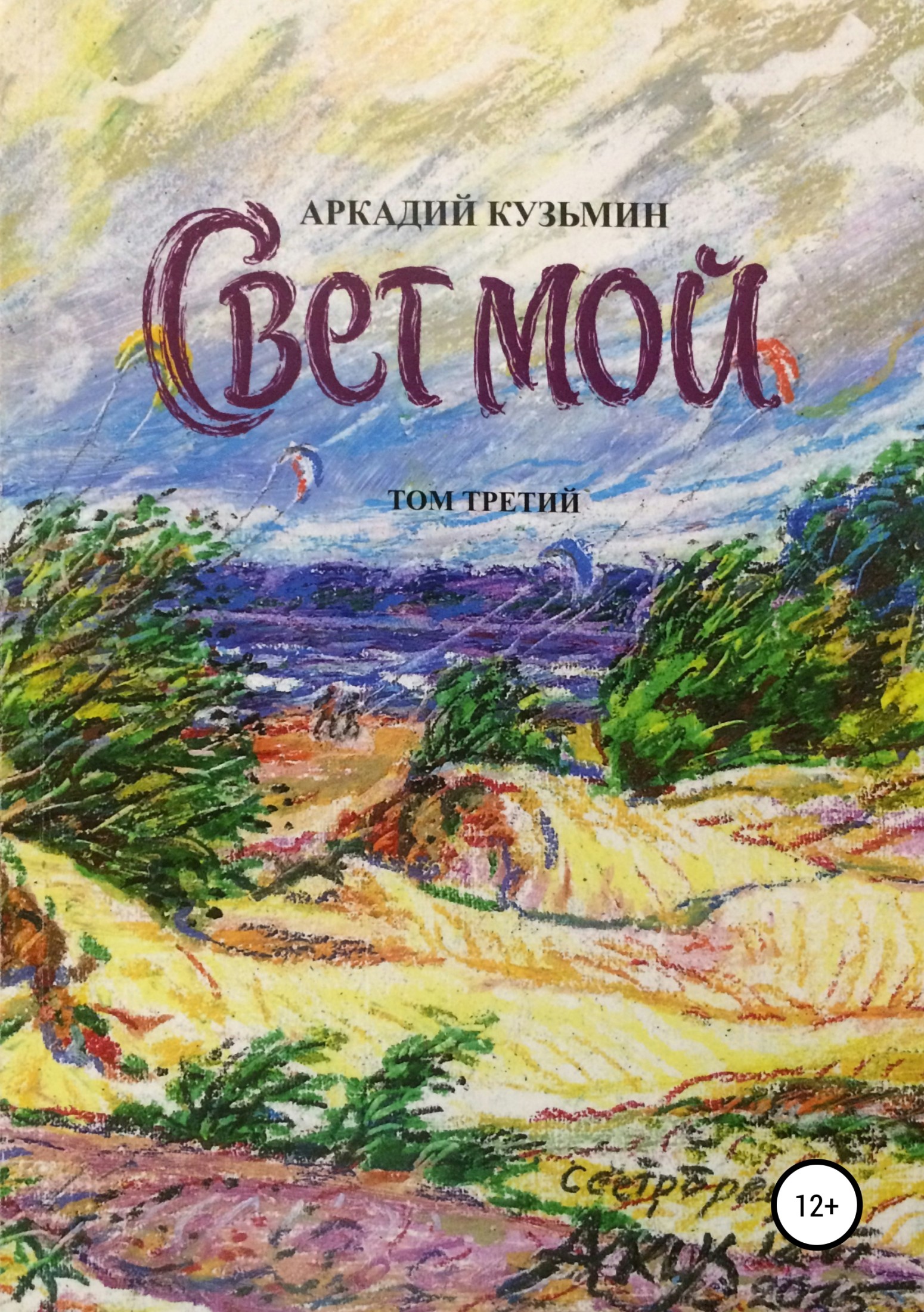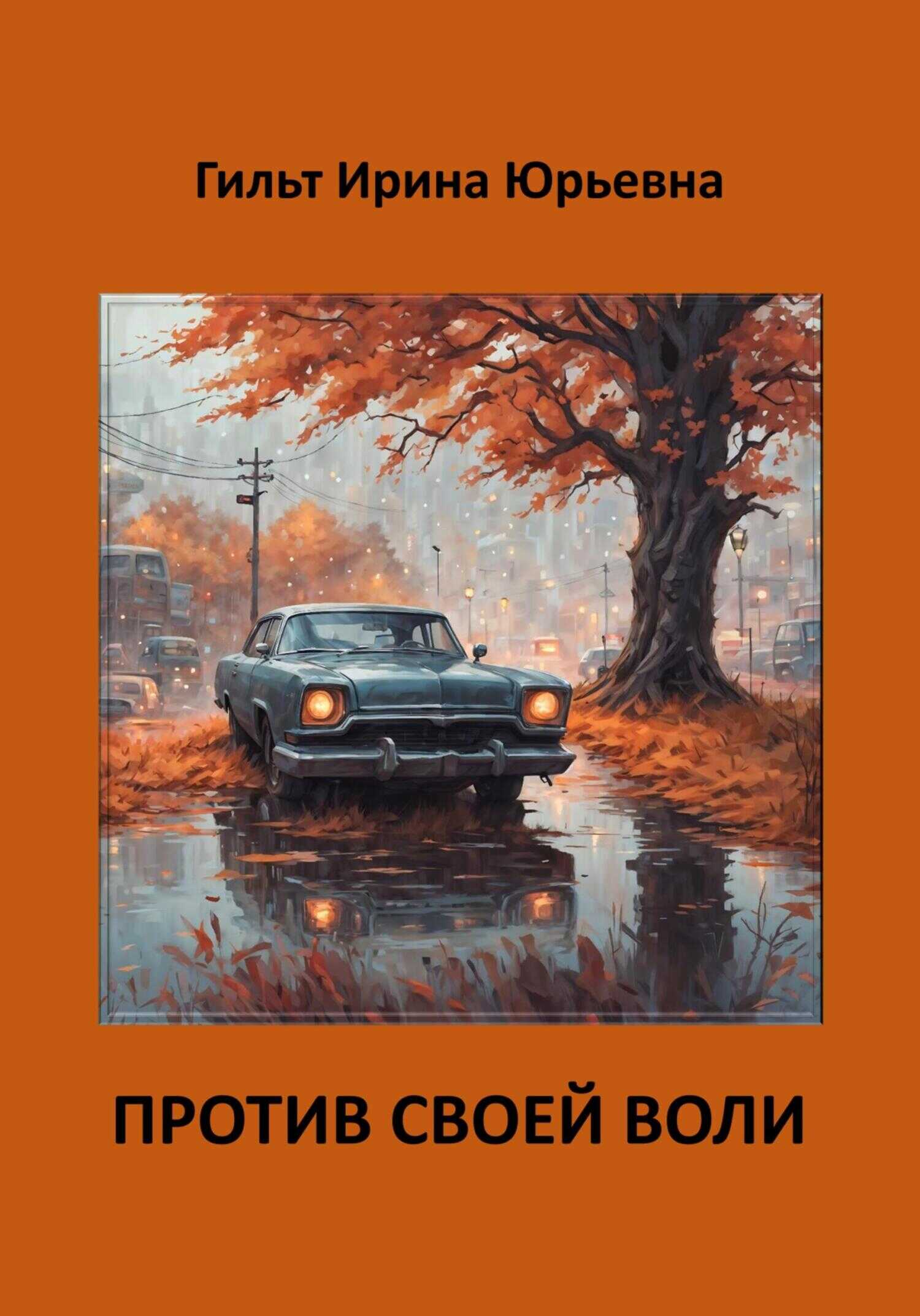Уже бегает – здоров, значит.
– Что, и с ним что-то было?!
– Было раньше еще. Она из-за него и пострадала: пошла в свою землянку, что была на ничейной земле, за едой для него, чтобы подкормить его, чтобы побыстрее он поправился. Немец подстрелил его – пуля прошила ему живот, когда он пополз к себе в землянку. Навылет ранение. Только Маша, значит, его выходила – самолично прооперировала как-то… Заражения не произошло. Внутренность у него не затронуло: то спасло.
– Ой, как же это, я не знаю, смогла она? Оперировать по живому? Чем? Обычным ножом? Ведь она никакого касательства к медицине вовек не имела, страшилась при виде крови до обморока. – Анна всплакнула, к одевавшимся медсестрам, в присутствии которых велся этот разговор, с мольбой обратилась: – Девушки, вы слышали: хворая сестра у нас – помочь бы как-нибудь, а? Вы не можете?
– Так где же она?
– Там, в Редькино, значит. На Волге.
– Ну вот, – сочувствующе из-за невозможности в таком обстоятельстве помочь сказала веснушчатая дивчина. С беличьим пушком над губами.
И вторая, складывая свой рабочий материал, для непонятливости пояснила:
– Нам задание – обойти пока этот район.
– Миленькие, ей нельзя быть там одной. Мы ее сюда переволокем.
– Тогда в Чачкино придите. К врачу.
– Там он есть?
– Да, живет. Зиновий Максимыч Белобрыс.
И со словами «до свидания» переписчицы ушли.
Голос Анны застенал сильней:
– Как чувствовала, чувствовала я беду такую. Меня неспокойствие все одолевало. Душа выболела вся.
– Я признала вас в момент, только вошла и взглянула, – сказала ей сидевшая посланница покорно и совсем к месту вроде.
Анна на то засмущалась, даже покраснев. Смахнула слезы.
– Отчего вы меня признали, говорите, если я не помню, не видала будто вас нигде ни разу? Почему-то все узнают меня, а я – вот не всех.
– Да потому. По глазам васильковым вы, сестры, схожи. Чисто ангельски взглянули на меня. – Незнакомка теперь взглядом повела на малышню, притихшую перед ней вследствие тех недобрых властей, которыми она расстроила взрослых. – Видно, много тоже исстрадались, много вам досталось.
– Ой-ой-ой! Как же так, Машенька не убереглась?
– Видать, родненькая, у нее судьба такая вышла. Мы ведь все под богом ходим. Ну, так кто-нибудь из вас пойдет к ней? Когда? Сейчас? Тогда подожду я – можно вместе: лучше, легче будет мне дойти…
– Немедленно идите кто-нибудь и везите ее сюда, – опередила всех в ответе Поля. – Надо перво-наперво положить ее в избу, в тепло. В Редькино, чай, негде?
– Негде, – подтвердила женщина. – Жилье с корневищем выщипано. Ни избеночки никакой не спаслось – все поразметало. А у вас это еще существует.
– Надо, Анна, мне туда: местность мне знакома все-таки… Ты как?
– Пойди, Дуняшка! Пойди, желанная! Ох, горюшко!
ХXV
Вскоре Дуня в возбуждении и ознобе от предстоящего свидания с несчастливицей сестрой, взяв с собой легко скользящие, доставшиеся очень кстати, крепкие финские салазки да сготовленный Анной узелок с провизией и настраивая легкий шаг, заторопилась в Редькино – вместе с возвращавшейся к себе провожатой, добролюбой тамошней жительницей Прасковьей Матвеевой, которая с полдороги, если не раньше, либо отдувалась, либо постанывала от вынужденного преодоления очень протяженного и изломанного бездорожья, когда ей хотелось от усталости прямо-таки хоть на корточки присесть. Дуня, как намыслилось, пошла на ночь с тем, чтобы переночевав в убежище у Маши (в один день сегодняшний было б уж не обернуться) и, приглядев так за нею эту ночку (ночью-то, известно, все черти водятся), уже с завтрашнего утра по морозцу выбраться назад, в Ромашино. Втроем. Вместе с Машей и ее вполне большим (пятилетним) Юрой.
Сомнений в таком плане действий ни у кого не возникало. Думали – как лучше.
Только вредоносная бабка Степанида, которая неприлично-жадно любопытствовала обо всем, но отличалась глуховатостью, из-за чего она приставляла к уху трубочкой ладошку, – для того, чтобы ей получше что-нибудь услышать, в этот раз почему-то не схватила главной сути хлопотов в доме и поэтому не встряла в них; что-то пропустив меж ушей и пытаясь хоть что-нибудь да уловить еще из разговора посетительницы и домашних, она несколько раз настраивала свой рупор, да так с неуловленным смыслом чужой тревоги, в неведении (и потому брюзжа с привычностью) и улезла опять на печку – долеживать свои текучие теплые сны. Для нее ничто не менялось.
Горечью всплескивавшиеся, однако, сомнения, вследствие еще одной безвинно сгубленной жизни, были, нечего таить; они были общего порядка, прели в концентрате того морального воздуха, которым дышало, вращаясь вокруг чего-то, молясь чему-то, надеясь на что-то, убивая, хапая, прославляясь, задыхаясь, падая и снова подымаясь на ноги, все человечество. И касались они, стало быть, лишь целесообразности такого обалденного все же устройства людьми мира для себя со своими сводами и законами, с поделением его благ и тумаков столь умышленным образом, что одни в открытую глушили все подряд, грабили и жировали на чужих костях, а другие вечно спасали кого-то или что-то от этих первых и еще спасались сами – врассыпную бегали, что зайчонки, под огнем и пулями. Разве подобное когда-нибудь пройдет, изгонится, забудется?
Навряд ли, углубленно-сумрачно думала шагавшая и шагавшая Дуня. В надежде кого-то спасти и самим спастись так бегали, сломя голову, все они, бабы; они бегали туда-сюда в истерике, с болью и страхом и в поте, с детьми на руках, ловили шпионов, даже схватывались с немцами за горло – уже не боялись… Но вот зацепило Машеньку…
Спросила Дуня, уточняя, у Прасковьи:
– Немцы, что ли, выгнали Машу с хуторка, что она застряла в Редькино? Когда?
– Та сказала с передышкой:
– А то как же, значит; не, не сама она, не добровольно это. Немчура все зацепила, поволочила; все она, проклятая. Мимо никого же не прошла, не пнув. Безо всего, почти голышом ее выпихнула в стужу.
И затем уже дорассказала – невелеречиво, голосом погасшим – следующее: что их, верхневолжских жителей, также выгоняла солдатня куда-нибудь подальше, но что всех повыскресть не смогла, так как неожиданно тут наши жахнули и проламывали оборону – наступали, что Редькино зато, например, четырежды с конца августа сорок второго года переходило из рук в руки при попытке наших закрепиться здесь, на этом волжском берегу, и что убитых – как солдат, так и мирных – уж не хоронили, только стаскивали в поле. Правда, не всегда.
Все понятно было.
Вот и деревню Хорошево прошли. Она выставилась над большим оврагом, пожалуй, еще в половину разваленных не до конца изб. Жить-то пока можно.
За ней, далеко на запад, у