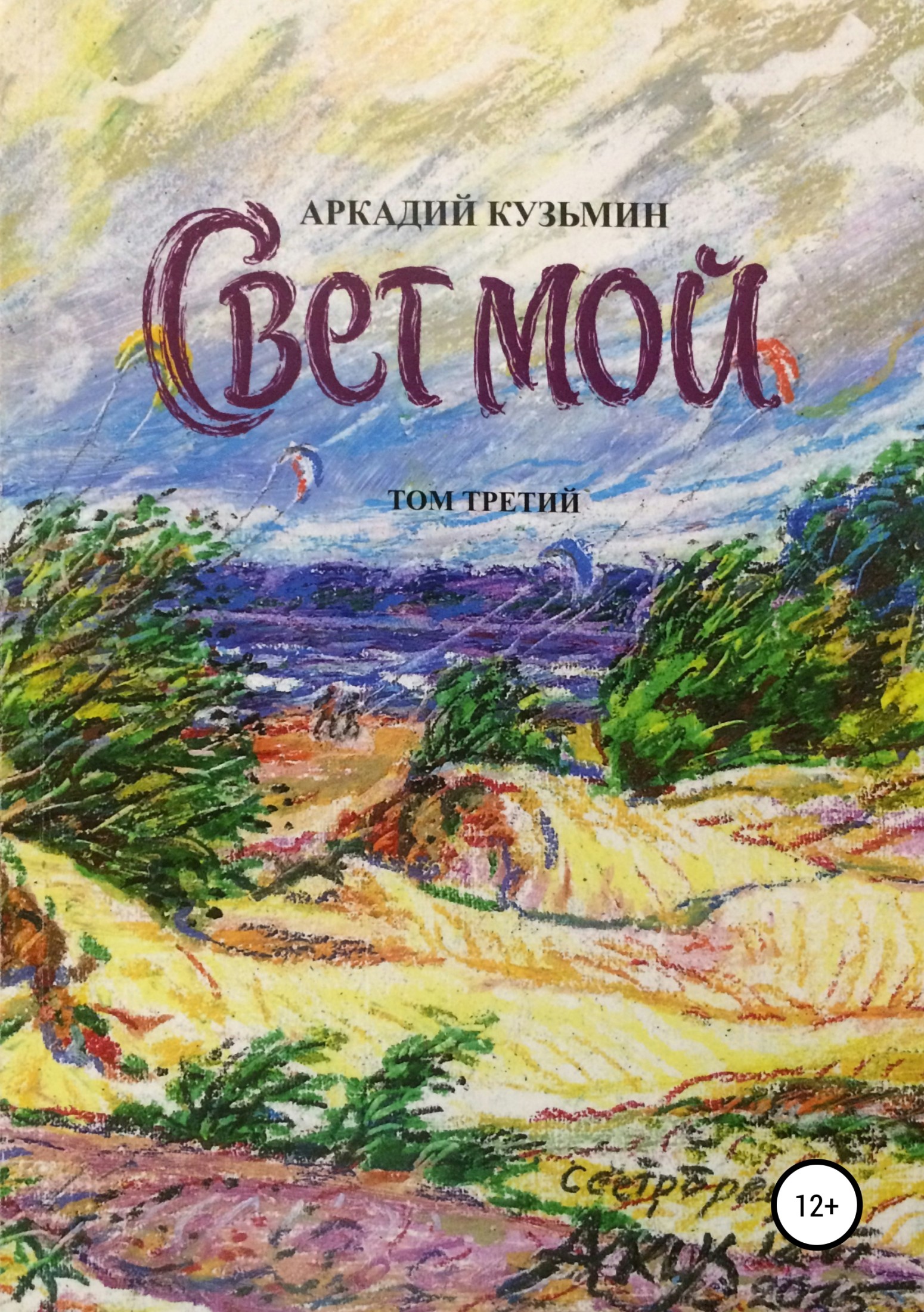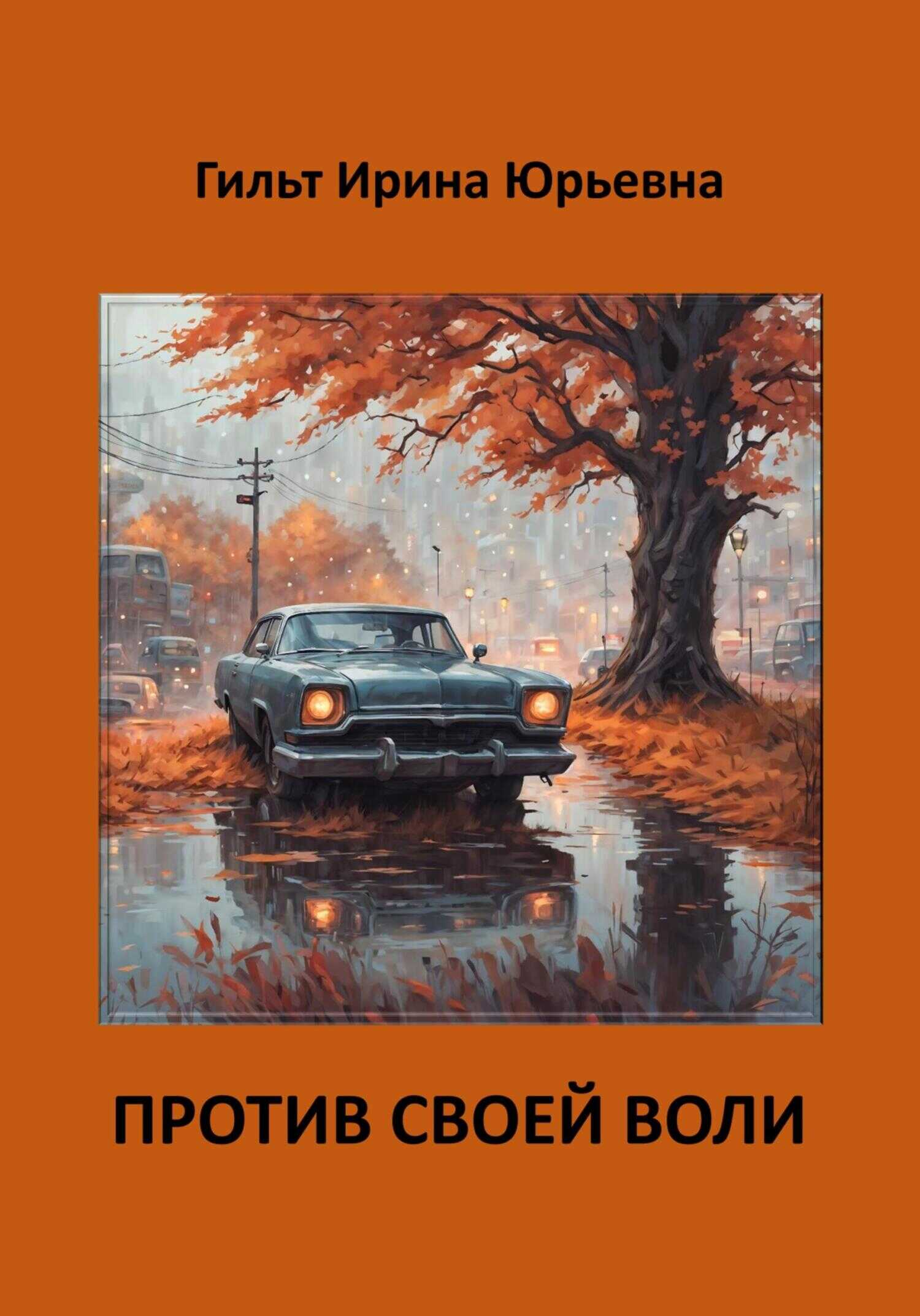аромат – и не он, а это сравнение кружило надеждой ей голову, и сердце ее стучало возвышенней, настойчивей, чем когда-либо, и она розовела вся. Поля также надеялась еще увидеть сына Толю и также Василия. Наташу, кроме всего, еще не покидала надежда (она лишь усилилась теперь желанием) встретить, если спасся он, того спасенного ею лейтенанта, нет, не спасенного (спасать можно лишь до конца), а пригретого и подкормленного; думала она, что если он живой и воюет поблизости, то непременно зайдет сюда, в Ромашино и найдет ее. Для Антона же, как и для Саши, особенность ожидания чего-то подтверждалась тем, что завязывались какие-то восхищенно-братские отношения с освободителями и проявлялись особенно чувства к ним. С самого начала.
И беседовавшие с ними, только что освобожденными женщинами и детьми, подружаясь с ними, бойцы конкретнее всего примеривали по ним, по их чувствам, по их сердцам, лицам и глазам свои сокровенные мысли и высокие желания о родных и знакомых, оставленных давным-давно дома, и хотели поскорее сделать то, что им надо было сделать по долгу службы, чтобы поскорее все закончить и вернуться домой, где их столько времени уже ждут.
ХXIV
Еще через день в прогревшейся людной Полиной избе необыкновенно появились две сноровисто-тонкоголосые девчушки в белых халатцах, медсестры, кем они представились. Однако, с позволительно официальной строгостью они велели каждому тотчас побыть с градусником под мышкой для измерения своей температуры. Неважно, недомогалось ли кому или нет: поголовной была медицинская перепись – выявление так заболевших, занедуженных. Попутно же, хотя и ограниченно, занося показываемые температурные цифры в графу пухлой канцелярской тетради – в строчке против записанной сначала фамилии и имени вместе с годом рождения, они и опрашивали всех о состоянии здоровья, самочувствии. Пришлось, прижав рукой градусник к телу, неподвижно посидеть – отчего ж не посидеть? – в пределах, требуемых для определения температуры десяти минут, оттикиваемых ходиками; то было диковинно уже потому, что все уже забыли, когда пользовались градусником, или, просто видели его, – как бы ни заболевали и ни температурили при этом. Давно уж не проводилось такое: все поотвыкли или, точнее, еще не привыкли – к профилактическому обходу по домам медиков. Случай был особенный.
– А это зачем нужно, доченьки? – взволновалась, всполошилась даже Анна, в свое время часто сама обращавшаяся к докторам вследствие одолевавшего ее нездоровья.
Молоденькие служительницы медицины только любезно улыбались в ответ на испуганно-наивный вопрос:
– Что «зачем»?
– Ну, то, что записываете нас…
– А как же? Порядок такой. Нет ли отклонений явных у кого.
– В больницу, что ли, будете класть того?
– Нет-нет, – повеселела больше веснушчатая медсестра, которая была повыше ростом. – К несчастью, здесь нет еще больниц. А нужно всех обследовать, чтоб не допустить распространения массовых болезней, эпидемий каких-нибудь…
– Наподобие тифа?
– Ага. Ведь в таких гиблых условиях вы жили и еще живете…
– Ну, теперь-то, доктор, нам уже лучше. Несравненно. Вздохнуть можно.
– Да еще наладится все. Со временем, конечно.
– Тем мы и живем, девушки, – сказала уже Поля и тут прислушалась: – Эва, никак кто-то еще чужой просится к нам: по стенке шарит, дверь ищет?
Очевидно, кто-то, вовсе незнакомый с забухшей и облохмаченной обивкой за несколько лет входной дверью, слышно затыркался в нее, шаря руками и пытаясь открыть ее.
– Впустить надо. – Антон встал с кровати, шагнул к двери и помог – изнутри несильно, придерживая, чтобы не сбить человека, нажал боком тела ее. Она открылась сразу, и он впустил шагнувшую незнакомую женщину лет сорока – с узелком в руках, с надетыми варежками, озабоченную каким-то неотложным делом, из-за которого она пришла, она – не какая-нибудь побирушка, нет, сразу было видно, достаточно было взглянуть на нее.
Вошедшая – нездешняя молодуха с хронически синюшным из-за недоедания, что у всех, измято-усталым лицом, глухо завязанным грубым клетчатым платком, в помятом и землистом длиннополом темно-синем, кажется, пальто, в серых валенках с калошами, – с обычной крестьянской смиренностью, либо же скромностью, встала у самого порожка, на тряпке-половике, чтоб не наследить, и поначалу, как водилось, покосившись на красный угол избы, стянув с рук варежки и беззвучно шевеля бескровными губами, трижды перекрестилась на иконку, висевшую там, под потолком, – помолилась сложенными щепоткой пальцами, и уж после поздоровалась охрипло:
– Здравствуйте!
Вразноброд ответили ей домочадцы, настораживаясь: с чем, зачем пришла сюда эта незнакомая женщина?
А она покамест, мня холщовый узелок в руках, обводила всех глазами с черными провалами да и определенно вдруг уперлась взглядом именно в Анну:
– Кашина… Анна – кто? – Вы, чай, будете, голубушка?
– Ну-ну-ну, я самая буду… – с удивлением, пугаясь чего-то, допривстала с койки, направилась к ней Анна с прижатым к телу градусником. – Что?
– Да давайте, хватит уж держать, – перехватив ее, медичка отобрала его у ней.
– Я – от вашей сестры, Маши… Из Редькино…
– Ох, что такое с ней?
Вскинулись также Наташа, Дуня, Поля.
– Этакое, вот скажу: если вы хотите еще застать сестру в живых, то немедля пойдите к ней. Потому она послала меня к вам – чтобы вас известить о том; она-то чистым пластом слегла, лежит. Так вот, миленькие.
– Маша?! Отчего же она? Скажите бога ради…
Пришедшая не обладала, верно, должным красноречием и бойкостью, что чаще и характерно для крестьянствующих тружеников, и, стало быть, нужно было буквально клещами вытаскивать из нее слова, чтобы вытянуть что-нибудь. И голос у ней, срываясь, звучал глухо, немощно:
– Фу! Она с неделю или больше, как плоха до крайности – уже не может двигаться сама самостоятельно. А пригляда за ней нет никакого – нужен ей уход, тепло, забота, а приглядывать некому. У нас с людьми – мертвая сейчас картина. Я ведь случаем на нее в землянке набрела. Ведь соседей каких-нибудь нет… Поэтому она и послала меня к вам срочной посланницей; она сказала: пусть сестры решают, как хотят, если они еще живы…
– Мы-то вычухались помаленьку.
– На все милость божья. Фу! Ноги обломала – еле-еле доскреблась сюда.
Поля уже подставила ей у печки стул с прогнувшимся внутрь сиденьем, вытерла его передником, предложила и помогла ей раздеться и сесть.
– Отчего ж она слегла все-таки? – спросила Дуня. – Где же ее свекор и свекровь?
– Тех нету с осени – снарядом их убило и дом разворотило.
– А Макарка, их внучек десятилетний?
– И того не пощадило. Сковырнуло.
– О, ужас, что!
– А тут Машу палкой избил озверелый фашист, барахольщик: выдрал у ней часы, ожерелье, сережки и какие-то ерундовские для него тряпки. Человека из-за этого сгубил.
– А что сынок Юра при ней? Здоров?
– Малый-то?