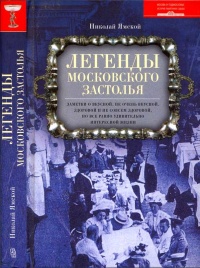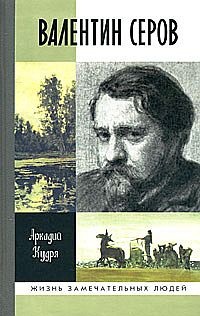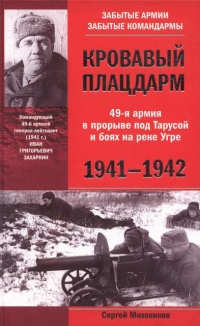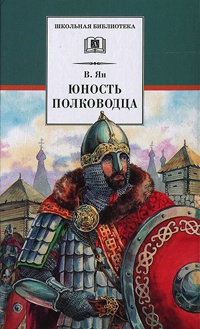Прочитав письмо, Кустодиев подумал, что сам он, неоднократно проезжая через Кострому и останавливаясь там, зимой никогда в ней не бывал. С ответом на столь сердечное письмо медлить не стоило.
«Новый год встретили, честь честью, и елка была и пирог был — но надо правду сказать, никогда не было такой тоскливой и невеселой елки, даже дети скучными были, а ведь это всегда был детский праздник. Всегда в это время бывал кто-нибудь из друзей, было светло и радостно, наступающий год казался таким желанным, обещающим что-то новое, непохожее на пережитое.
А если новый год будет не лучше, а такой, как прежний, или еще хуже, то, видимо, и не переживешь его.
Как видите, состояние моего духа неважное, я так смертельно устал, что даже те остатки бодрости и жизнерадостности, которые меня поддерживали до последнего времени, как-то вдруг и сразу испарились.
Правда, и физически я себя очень неважно чувствую — совсем ослабли ноги и даже та, на которой я хожу, — с трудом… передвигается. Единственное, что спасает, это работа, которой стараюсь заниматься до одурения. А работа не удовлетворяет, все это как-то наспех… И ничего нельзя писать для себя, для души, так как нужны деньги, деньги и еще раз деньги.
Жизнь здесь дошла до таких пределов тяготы, что даже и представить трудно, как мы ее переносим. Как живой пример можно привести хотя бы то, что Юлия Евстафьевна каждое воскресенье ходит пилить дрова от 10 до 5 часов и получает там… как настоящий чернорабочий. И это все для того, чтобы заработать 10 пудов дров, без которых нам пришлось бы мерзнуть.
Еще, слава Богу, вода идет в нашей половине дома, а это большое счастье, хотя, говорят, и недолговечное, до первых больших морозов…
Как я завидую Вам и радуюсь за Вас, что Вы на природе и можете наслаждаться этой красотой зимы, о которой пишете! Ведь это самое мое любимое, эти морозные сказочные дни с инеем, этот звенящий воздух, этот скрип полозьев по хрустящему снегу и багровое в тумане солнце. Отдал бы теперь остаток жизни за возможность еще раз пережить эту красоту, надышаться этим острым, разрывающим грудь морозным воздухом! Вот этого мне и не хватает, вот от этого я и таю понемногу — недостаток этой природы, от которой я каждый раз воскресаю и телом и душой.
Вижу своих друзей очень редко. Верейский совсем уехал, сдавши квартиру Добужинскому. Получил там у себя в 4-х верстах место руководителя художественной мастерской (это в деревне-то, вот культуризмы!) и не собирается сюда приезжать. Конечно, это самое лучшее, что он может сделать; жить здесь, как он жил, ходя весь день по городу на своих двоих, да еще с пустым животом, несладко. Очень его недостает, хотя и редко он к нам заглядывал последнее время.
Новость здесь — это “Дом искусств”, нечто вроде сообщества художников, литераторов с пятницами — музыкально-литературными собраниями и выставками сепаратными. Открывается сейчас выставка Замирайло — затем четвертая, вероятно, будет моя (приблизительно в марте). Все это помещается в доме Елимеева, там, где и Нотгафт живет, и даже его квартира частью входит в это учреждение…»[417]
Упомянутый Кустодиевым Дом искусств был организован в конце 1919 года, и в его художественный совет, который возглавлял М. Горький, вошли художники А. Бенуа, М.Добужинский, Ю. Анненков, П. Нерадовский, К. Петров-Водкин… Из литераторов членами совета состояли А. Блок, Е. Замятий, Н. Тихонов, К. Чуковский и другие. Ставший своего рода клубом петроградской интеллигенции, Дом искусств привлекал и своей неплохой по тем временам столовой.
К. Сомов 27 декабря 1919 года записал в дневнике о состоявшемся в тамошней столовой обеде, на который собралось около двадцати художников, среди них Яремич, Анненков, Замирайло, Петров-Водкин и другие. «Говорили больше о еде, радовались хорошему обеду. Меню: щи, пшенная каша с маслом, какой-то крем сладкий и чай сладкий. Потом начали рисовать друг друга…»[418]
С художником Виктором Дмитриевичем Замирайло, чья выставка в Доме искусств открыла серию персональных выставок петроградских художников, Кустодиев особенно сблизился в послереволюционные годы, хотя знакомы они были давно. В августе 1919 года Борис Михайлович сделал карандашный портрет Замирайло. Его глаза полуопущены, длинные волосы падают вниз с лысоватой головы; выдающие печальный настрой морщины прорезали одутловатое лицо.
Дочь Бориса Михайловича Ирина Кустодиева оставила словесный портрет Замирайло в те годы: «Странный и чудаковатый это был человек и, должно быть, бесконечно несчастный и одинокий. В каком-то немыслимом плаще, в пиджаке, подпоясанном веревочкой. Если соглашался после долгих упрашиваний сесть к столу, то непременно вынимал из кармана свой кусок хлеба и ни за что не хотел съесть чего-нибудь нашего, на что мама, всегда очень гостеприимная, вначале обижалась. Он рассказывал смешные истории о своем давнем житье на Украине…»[419]
Уроженец Украины, Замирайло получил художественное образование в художественной школе Киева, руководимой Н. И. Мурашко, принимал участие в реставрации Кирилловской церкви и росписи Владимирского собора — вместе с М. А. Врубелем и В. М. Васнецовым.
Искусствовед В. Воинов находил немало общего в искусстве Кустодиева и Замирайло. «Во многом, — писал Воинов, — их творчество является как бы взаимным дополнением, но, принципиально, между ними есть некоторые точки соприкосновения. Бытописателя реалиста Кустодиева мы назвали “фантазером быта”, с таким же правом мы позволяем себе назвать В. Д. Замирайло “реалистом сна”. Перед одним быт проходит как пестрый и веселый сон, другой — сны, почти подсознательные грезы, самые невероятные фантасмагории, роящиеся в голове, видит как острую реальность и именно так фиксирует их в своих многочисленных рисунках. Элементы реального и фантастического свойственны и тому другому, может быть, в равной степени, но расположены как бы на разных полюсах. У одного действительность является фантастической, у другого все фантастическое становится реально убедительным. И тот и другой при этом глубоко правдивы… только у Кустодиева быт преображается средствами воображения, а у Замирайло его мечты конкретизируются в реальных формах»[420].
Замирайло иллюстрировал «Путешествия Гулливера» Свифта, Гоголя, был страстным поклонником и последователем знаменитого французского иллюстратора Г. Доре. За буйные художественные фантазии его иногда называли «русским Гойя».
После посещения выставки Замирайло в Доме искусств К. Сомов записал: «Много прекрасных вещей, он мог бы быть замечательным художником, если бы ему подчас не мешала… рабская любовь к Доре»[421].
К собственной персональной выставке в Доме искусств, первой в его жизни, Кустодиев готовился весьма ответственно. Хотя большое полотно «Групповой портрет художников “Мира искусства”», работа над которым велась с 1910 года, написать так и не удалось, Борис Михайлович все же завершил эскиз картины. На нем изображено собрание художников в гостиной квартиры Добужинского. Обстановка непринужденная. Сидящий во главе стола Игорь Грабарь, держа в руках раскрытую книгу, прислушивается к общей беседе. Рядом с ним — углубленный в себя Николай Рерих. По другую сторону от Грабаря, справа, Кустодиев изобразил себя, сидящего спиной к зрителю и беседующего с обернувшейся к нему Остроумовой-Лебедевой. Рядом с ней встал со своего места и как будто хочет что-то сказать Кузьма Петров-Водкин. Однако центр беседы на том конце стола, где расположились Добужинский, Сомов и В. Д. Милиоти. К ним прислушиваются сидящие в центре Александр Бенуа и Евгений Лансере. Похоже, внимание коллег хочет привлечь поднявшийся с рюмкой в руках остроумец и балагур Иван Билибин. Здесь же, за спиной Александра Бенуа, изображен и еще один член «Мира искусства» — скончавшийся в 1920 году Георгий Нарбут.