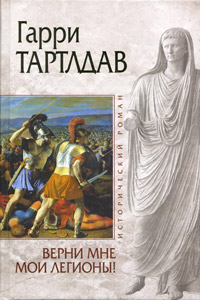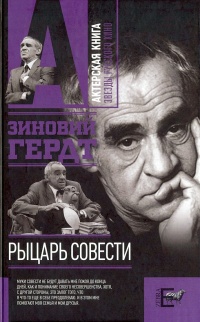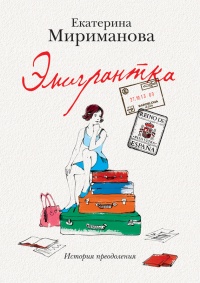Прошло несколько дней после похорон Пирса, и я сказал Друзьям после очередного Собрания, что готов говорить о своих грехах, однако прошу разрешения сначала побеседовать с одним Амбросом. Из-за убеждения, что секреты вредны и даже ядовиты («могут принести болезнь и даже смерть группе людей или организации, где они поощряются»), Друзья поначалу этому сопротивлялись. Однако, видя глубину моей тоски по ушедшему другу, они согласились пойти мне навстречу и проявить снисхождение к моей слабости.
Осенние вечера стали прохладнее, в камине горел огонь. Амброс сидел перед камином, я же грел у огня руки, преклонив колени на коврике в позе кающегося грешника.
Хотя от волнения меня поташнивало, заговорил я громким голосом. Я сказал Амбросу, что развязность и распутство — свойства моей натуры, не скрыл, что часто пренебрегал работой в больнице св. Фомы, преследовал женщин в парке, а потом приводил их домой. «Утрата королевской милости, приведшая меня в «Уитлси», — тоже последствие моей похоти. Я обещал королю никогда не прикасаться к моей жене, но желание обладать ею было так сильно, что я не смог удержаться от соблазна. Этим я поставил себя в глупое положение, расстроил жену и привел в бешенство короля. Теперь ты видишь, Амброс, что страсть к женскому полу сослужила мне плохую службу: я ничего не достиг ни в мирских делах, ни в науках. Временами, осознав это, я сокрушался, что Господь вообще создал женщин!»
Я замолчал. Амброс понимающе кивнул. Этот кивок вызвал у меня желание спросить, не закрадывалась ли и ему в голову подобная мысль, но я вовремя удержался: непохоже, чтобы этот человек, твердый, как кремень, когда-нибудь испытывал бурные страсти.
— Когда я приехал в «Уитлси», — продолжал я, — то решил, что оставил позади все, связанное с прошлой жизнью. И верил, что здесь изменюсь.
— И что, изменился, Роберт?
— Частично. Джон это понимал, когда говорил, что я «делаю успехи». Возможно — хотя он никогда не говорил об этом — он предвидел, что Кэтрин станет искушением для меня, я буду сопротивляться, но в конце концов рухну.
— Узнав об этом, он счел бы, что ты совершил предательство, Роберт.
— Предательство?
— Да. Опекуны считают, что мы здесь, в «Уитлси», относимся к своим подопечным как родители к собственным детям, а если один из родителей прикасается к своему ребенку, желая получить наслаждение и удовлетворение для себя, — это страшное предательство.
Я вздохнул. Нельзя не признать, что именно так я относился к Кэтрин, потому и смастерил для нее куклу. С этих позиций мое временное помешательство выглядело еще отвратительнее, и суровость Амброса была совершенно справедливой.
К этому времени я не видел Кэтрин несколько дней: Амброс попросил меня держаться в стороне от «Маргарет Фелл». Сейчас он мне рассказал, что со времени моего предательства Кэтрин не спит — на нее не действуют никакие средства, кроме настойки опия; днем и ночью повторяет она мое имя, зовет меня, визжит, рыдает, ласкает себя неприличным образом. Само мое имя теперь связывалось с ее безумием, и женщины из «Маргарет Фелл» говорили Опекунам, что Кэтрин страдает потому, что «помешалась на Роберте, — это очень тяжелое психическое расстройство».
Все это повергло меня в ужас, голос лишился прежней силы, мне захотелось только одного: трусливо пасть к ногам Амброса (в голове мелькнуло, что однажды я вот так же валялся у ног короля) и замереть в тишине и темноте. Амброс, без сомнения, понял мое состояние и положил свою огромную руку мне на плечо.
— Я знаю, ты переживаешь из-за того, что случилось. Мы любим и прощаем тебя, Роберт.
— Спасибо, Амброс.
— Но я также не сомневаюсь, что ты захочешь искупить вину, и Бог надоумил меня, как ты должен это сделать.
— Бог надоумил?
— Да.
— Что Он сказал? Что мне нужно сделать?
— Ты должен уехать из «Уитлси».
— Знаю. Я понимал, что придется уехать.
— Но не одному. Ты должен взять с собой Кэтрин.
Я поднял глаза на Амброса. Сглотнул. Сжал руки и умоляюще протянул их к Амбросу.
— Амброс, — заговорил я, — пожалуйста, не проси этого…
— Я ничего не прошу. Этого требует Бог.
— Нет! Он не может…
— Ты думаешь, Он забыл, как ты сказал, что вновь почувствуешь себя полезным, если сможешь кого-нибудь исцелить и увидишь, как этот человек уходит отсюда?
— Да, я так говорил…
— И Он услышал тебя. И сделал так, что теперь это может сбыться.
— Но Кэтрин нездорова…
— Пока нездорова. Но лекарство найдено. Ты его нашел, и только ты им владеешь. Это лекарство — ты сам.
— Нет, Амброс.
— Это лекарство — любовь, Роберт. Будешь ее любить — она будет спать, а когда к ней придет сон, отлетит безумие. Кроме того, теперь она полностью принадлежит тебе: ведь она ждет от тебя ребенка.
Этой ночью я не мог сомкнуть глаз.
Своих мыслей я не помню. Одно знаю: будущее представлялось мне настолько отвратительным, что жизнь до этого момента стала казаться невероятно счастливой — просто раньше я этого не осознавал. Джордж Фокс сказал, что с того момента, когда впервые услышал обращенные к нему слова Бога, он «все ощущал по-другому, не так, как раньше». Нечто подобное случилось и со мною, только для него мир обрел новый и свежий облик, а для меня он был полон отчаяния.
После того как Амброс сказал Эдмунду, Элеоноре и Ханне, что «Роберт не уклоняется от ответственности перед Кэтрин», все стали со мной ласковы, приветливо улыбались и обещали молиться обо мне. Только Даниел смотрел на меня с печалью. «Тебе должно быть стыдно, что ты так и не научил нас играть в крокет», — сказал он.
Все последние дни я пытался решить, куда мне направиться, выехав за ворота «Уитлси», — на север к морю, на северо-восток в Норфолк или на юг в Лондон, однако душа моя не лежала ни к чему. Мне никуда не хотелось — отвращение к жизни переполняло меня. В конце концов я выбрал дорогу на Лондон, вспомнив, что там свирепствует чума. В моем представлении смерть от чумы — подходящий для меня жизненный финал, — к тому же я его сам на себя навлек.
Опекуны забрали Кэтрин из барака. Ее вымыли, причесали, одели в чистое. Теперь она жила в комнате Пирса. Ей обещали, что я приду и утешу ее — «ведь он нежно любит тебя и ребенка», и после таких обещаний она и вправду засыпала.
Вот так мне пришлось вернуться в комнату, где умер мой друг и где Кэтрин сидела на том самом жестком стуле, на котором обычно, плотно сжав колени и держа книгу у самого носа, как веер, сидел Пирс. Слова Гарвея сладкозвучно отзывались в его мозгу, и он забывал обо всем на свете.
Увидев меня, Кэтрин поднялась со стула, обвила руки вокруг моей шеи и зарыдала, повторяя «Роберт, Роберт, Роберт» — двадцать или тридцать раз. Я ее поддерживал. На ней было чистое льняное платье, она пахла иначе, чем раньше, — перемена была мне приятна.