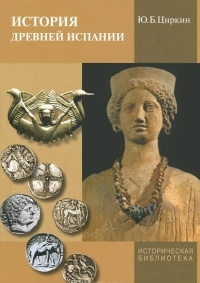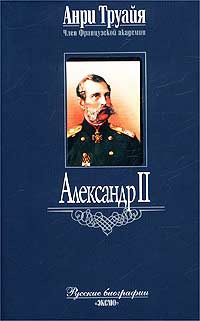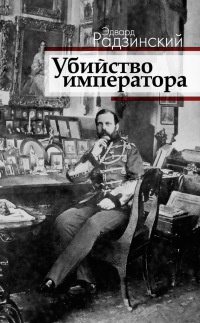сказал Френтан. – Будем надеяться, что многое прояснится, когда ты встретишься с Афинионом…
На следующий день Сальвий устроил очередной смотр своим войскам, которые выстроились на равнине в полумиле от Моргантины.
Бойцов в полном тяжелом вооружении насчитывалось не менее четырех тысяч. Еще две тысячи имели оружие велитов, но вполне способны были участвовать в ближнем рукопашном бою. Остальные шесть тысяч вооружены были рогатинами, фурками, косами и обожженными на огне кольями.
Обходя ряды воинов, Сальвий особенно много слов потратил на то, чтобы побудить их к самостоятельному изготовлению копий и щитов.
– Придет время, и у нас будет много настоящего оружия, которое мы отнимем у неприятеля, но сейчас в этом деле никто нам не поможет, кроме нас самих, – повторял он.
Одновременно он призывал их регулярно упражняться с оружием в строю македонской фаланги, говоря, что Александр Великий благодаря этому строю завоевал все народы до самой Индии. Перед тем как распустить воинов, Сальвий напомнил им о том, что римский претор собирает войско в Тавромении и повторил свой приказ не убивать никого из сицилийцев и италийцев, если они бросят оружие, пояснив, что так они с еще большей неохотой будут сражаться.
Этот приказ вождя восставших быстро распространился далеко вокруг и достиг десятитысячного преторского войска, которое уже двигалось от Тавромения по дорогам Леонтинской равнины. Известие о приближении врага привезли Сальвию конные разведчики, совершавшие смелые рекогносцировки до самой реки Симет.
После сорокадневного пребывания в Тавромении претор, произведя набор солдат, выступил из города, имея под своим началом пять тысяч сицилийцев, собранных по чрезвычайному набору на севере провинции, и три тысячи италийцев, переправленных на кораблях советниками Консидием Вером и Альбинованом с бруттийского берега. Кроме того, Нерва вооружил восемьсот вифинцев и каппадокийцев, недавних рабов, отпущенных на свободу по сенатскому постановлению. Под Катаной он присоединил к своему войску более полутора тысяч критских, фессалийских, акарнанских и прочих наемников, которых привел освобожденный из плена военный трибун Марк Тициний, собравший этих солдат в Гераклее, Эдиссе, Гелоре и в других приморских городах.
Для Мемнона второй день его пребывания под Моргантиной ознаменовался неожиданным и радостным для него событием. Перед самым закатом он повел на водопой своего коня. Неподалеку от лагеря в живописной низине протекал небольшой ручей. Александриец спустился к нему, напоил Селевка (так он назвал коня) и, стреножив его, пустил на луг, а сам расстелил на траве плащ и прилег на него, наслаждаясь царящей вокруг тишиной после лагерного шума.
Мысли его были о Ювентине. Его первое письмо, которое он отправил ей из Гераклеи, она, видимо, уже получила. В Гераклее он разыскал письмоносцев, щедро им заплатив за доставку письма. Чтобы письмоносцам проще было отыскать виллу Геренния, Мемнон нарисовал для них на куске пергамента более или менее точную карту окрестностей Катаны и обозначил местонахождение виллы. После этого у него стало спокойнее на душе. Сам он планировал отправиться в Убежище в начале осени, уверенный в том, что восставшие к этому времени будут полными хозяевами острова…
Внезапно он услышал неподалеку громкие голоса и смех. Мемнон поднял голову и увидел в двух сотнях шагов от себя группу из четырех человек, которые подошли к ручью и стали снимать с себя плащи и туники. Это были рослые и великолепно сложенные молодые люди. У всех четверых были сильно отпущены волосы и бороды. Сбросив с себя одежду, они бросились в воду ручья, оглашая долину веселыми криками и хохотом.
До Мемнона долетали обрывки фраз купальщиков, и голоса их показались ему знакомыми. Он прислушался. Один из голосов прозвучал вполне отчетливо и напомнил ему голос жизнерадостного тарентинца Сатира. В голове у него сверкнула мысль: «А что если?..».
Он вскочил на ноги и скорым шагом двинулся берегом ручья в сторону плескавшихся в воде молодых людей, ускоряя шаги и повторяя про себя: «Не может быть!.. Нет! Этого не может быть!». До купальщиков оставалось не более полусотни шагов, и у Мемнона, не спускавшего с них глаз, сильно забилось сердце. Он узнал всех четверых. Это были незабываемые и дорогие его сердцу друзья-гладиаторы, которых он считал погибшими в злосчастной битве под Казилином.
С криком радости он со всех ног бросился к ним, называя каждого по имени:
– Сатир!.. Астианакс!.. Багиен!.. Думнориг!
– Возможно ли? – закричал Сатир, глядя на Мемнона глазами, широко раскрытыми от изумления. – Смотрите! Да ведь это же Мемнон!..
Астианакс, Багиен и Думнориг, узнав александрийца, завопили с восторгом:
– О! Бессмертные боги!.. Это Мемнон!.. Мемнон!
Выбравшись на берег, все четверо набросились на бежавшего им навстречу друга и повалили его в густую траву.
– Задушите! – смеясь и плача от радости, кричал Мемнон.
– Это какое-то чудо! – крепко обнимая его, неиствовал Багиен.
– Уколите меня кинжалом! Я же сплю. Это просто сон! – ликующе выкрикивал Астианакс, целуя александрийца в обе щеки.
– Нет! Лучше я подергаю вас за ваши хохлы! – схватив за волосы Думнорига и Сатира, кричал Мемнон.
Друзья еще долго терзали его в объятиях и не могли прийти в себя от радостного возбуждения…
* * *
Друзья-гладиаторы привели Мемнона в ту часть главного лагеря, где разместились беглые рабы, которые прибыли накануне и еще не были распределены по отрядам. Здесь они развели костер и стали рассказывать о своих скитаниях после резни под Казилином.
– Когда стало ясно, что римляне ворвались в лагерь, Ириней приказал всем нам садиться на коней и пробиваться к главным воротам, – начал Сатир. – Много наших погибло, и вместе с ними бедный Сигимер, да упокоится его душа в царстве теней. На перекидном мосту через ров мы разметали римлян и, продолжая их рубить направо и налево, соединились вскоре с когортой спартанца Клеомена. Его люди вырвались из лагеря через левые боковые ворота, обращенные к Аппиевой дороге. Клеомену удалось далеко прогнать стоявших перед ним римлян, но вскоре им на помощь подошел большой отряд, ударивший нам в тыл, и началась резня. Ириней, увидев, что по дороге со стороны Капуи появилась новая вооруженная толпа, повел нас на прорыв. Разогнав коней во весь опор, мы промчались по дороге, осыпаемые со всех сторон дротиками. Ириней и вместе с ним еще несколько человек рухнули на дорогу вместе с конями. Нас оставалось всего двадцать человек, когда мы, свернув с Аппиевой дороги, поскакали в сторону Тифатской горы. Миновав старый наш лагерь, мы направились в горы и остановились в каком-то глухом ущелье. Там мы прятались весь день, советуясь, что нам делать дальше, и под вечер решили идти в область Калатии, чтобы оттуда пробраться в Кавдинские горы…
Сатир замолчал и стал подбрасывать сучья в огонь.
– Оставаться в Кампании было опасно, – продолжил рассказ Думнориг. – Мы двинулись на юг, добрались до Апулии. У Сатира в поясе было зашито несколько серебряных монет. Пока были деньги, мы останавливались в заезжих дворах, чтобы утолить голод. Потом занялись грабежами на больших дорогах. В этом деле кони были нам большим подспорьем. Мы имели возможность не задерживаться подолгу на одном месте, быстро передвигаясь из одной области в другую. В самом начале лета из Апулии мы перебрались в Луканию. Во время нескольких удачных набегов каждый из нас обзавелся деньгами. Среди нас было семь человек свободных. Это были молодые крестьяне из Самния, примкнувшие к Минуцию в надежде на добычу. Они заявили нам, что возвращаются домой. Мы их не удерживали. Нас осталось тринадцать человек. Некоторое время мы вели себя тихо и свободно передвигались по Лукании и Апулии под видом обычных путешественников. Сатир и еще один из нас, родившийся в Италии и хорошо говоривший по-латыни, представлялись в заезжих дворах гражданами из Сабинской земли, а все остальные изображали из себя их рабов и вольноотпущенников. Города объезжали стороной. В хорошую погоду предпочитали ночевать под открытым небом. Когда деньги кончились, мы снова принялись за разбой. Из Апулии мы перебрались в Луканию, но там очень скоро наши подвиги переполошили местных жителей, и они устроили на нас настоящую охоту. Мы решили вернуться в Апулию и по пути