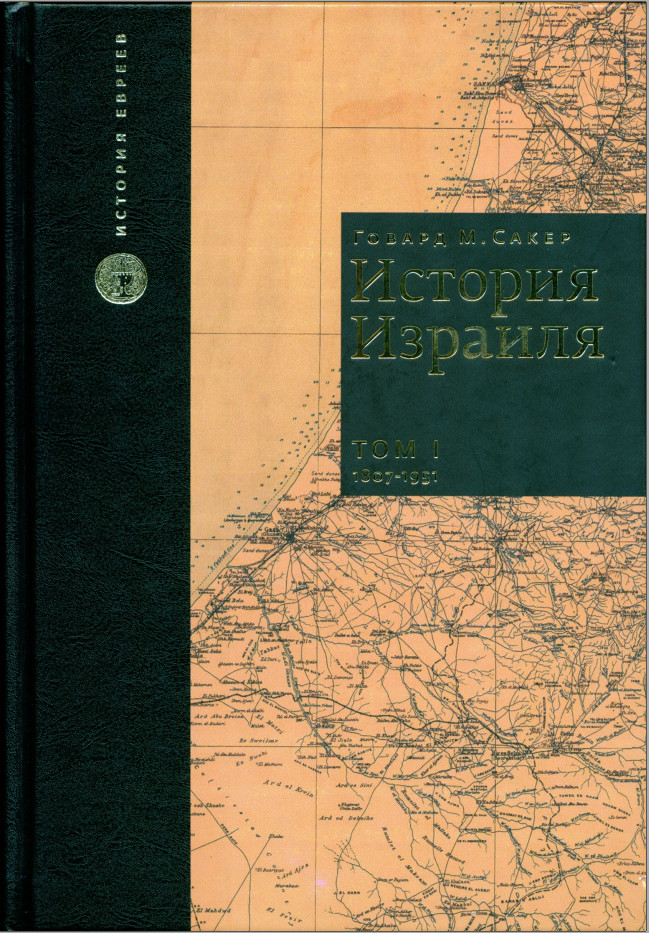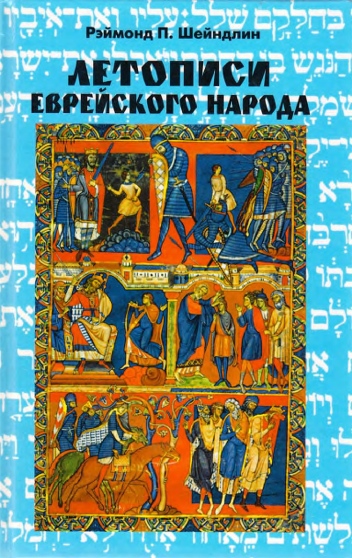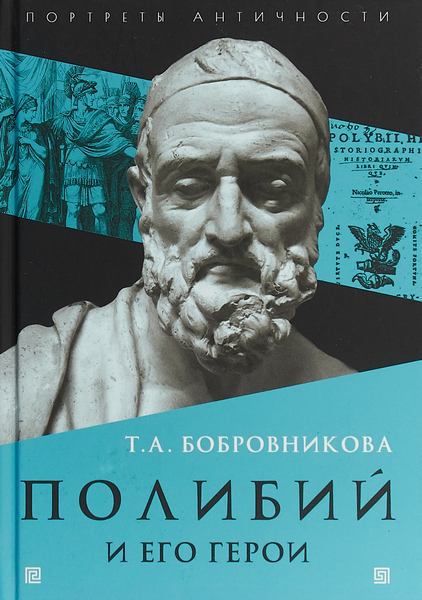согласился принять у себя дома нескольких дипломатов и начал встречаться, хотя и нечасто, с журналистами. Он отреагировал только на два политических события: операцию «Моше», в ходе которой в Израиль самолетами были переправлены тысячи эфиопских евреев (и которая очень обрадовала его), и подписание Лондонского соглашения, в рамках которого в 1987 году предполагалось создание конфедерации Иордании и части территории Иудеи, Самарии и сектора Газы, при одновременном подписании мирного договора между Израилем и Иорданией (против этого плана Бегин решительно возражал)[630]. Бегин, однако, не проявлял никакого интереса к публичному обсуждению разногласий с Ариэлем Шароном. В 1984 году Шарон возбудил дело о клевете против журнала «Тайм», продолжая отстаивать свою версию случившегося во время Ливанской войны. Через пять лет после окончания этой войны, в августе 1987 года, Шарон выступил с четырехчасовой речью в Тель-Авивском университете, публично заявив, что он не несет вины за происшедшее в Ливане, и утверждая, что он не предпринимал никаких действий без одобрения правительства. Эта речь вызвала возмущение в обществе, разбередив только-только начавшие затягиваться раны войны. Как заметил один израильский журналист, «можно вывести израильтян из Ливана, но невозможно вывести Ливан из сознания израильтян»[631].
В 1988 году Бени Бегин, возмущенный тем, что Шарон вводит в заблуждение израильскую общественность подобно тому, как он раньше вводил в заблуждение его отца, и огорченный молчанием отца, опубликовал статьи в «Едиот ахаронот» и «Маарив» в его защиту. Бегин-отец отнесся к этим публикациям с радостью; однако, когда Бени решил баллотироваться в Кнессет по списку Ликуда, отец не поддержал кампанию сына. Возможно, Бегин не хотел, чтобы его сын подвергался тем же опасностям в мире политики, с которыми столкнулся он сам? Или он просто не одобрял такой выбор Бени? Никто не знает ответа на эти вопросы. Дети Бегина практически никогда не говорили публично о своем отце — им в удел также досталась этика молчания.
Когда Джимми Картер посетил Израиль, Бегин отказался встретиться с ним.
В 1990 году у Бегина случился второй перелом бедра, и состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться. После операции его перевели в тель-авивскую больницу «Ихилов» для реабилитации. Он не мог ходить, немного прибавил в весе и охотно общался со своим физиотерапевтом, молодым человеком, говорившим на иврите с ошибками; Бегин, стремившийся к совершенству во всем, регулярно поправлял его в ходе их общения[632].
В январе 1991 года, когда Бегин все еще находился в больнице, Ирак начал ракетный обстрел Израиля во время войны в Персидском заливе. Ущерб, причиненный Израилю ракетами Саддама Хусейна, был невелик, о чем говорилось в письме, адресованном Бегину, которое подписали сто членов Кнессета и в котором выражалась благодарность за его судьбоносное решение уничтожить реактор «Осирак» в 1981 году. Бегина выписали из больницы в марте; спускаясь по больничной лестнице перед объективами теле- и фотокамер, он не держался за перила с левой стороны. Когда врач указал ему на это, он усмехнулся и сказал: «Никогда не уклонялся влево»[633]. Он поблагодарил врачей и поцеловал руки медсестрам. В любом состоянии Бегин неизменно оставался европейцем, джентльменом, и его никогда не оставляло чувство юмора.
Однако из своего добровольного заключения он так и не вышел. Человек, который провел свои первые годы в Палестине, скрываясь в подполье, точно так же скрывался и в последние годы своей жизни. Возможно, он и в самом деле просто не мог больше жить без Ализы. Возможно, дело было в физической немощи человека, утратившего свои силы. Или же это было символическое молчание, своего рода возвращение в подполье, после того, как он был обманут Шароном и сурово осужден Каѓаном? Быть может, возвращение в тень, в сумрак, в молчание давало ему ту чистоту помыслов, в которой ему отказывал мир политики? Кто может сказать? Возможно, на эти вопросы не было ответа и у самого Бегина.
Бегин с дочерью перебрались в Тель-Авив, поближе к больнице, где он продолжал свой курс лечения. Весной он дал долгожданное интервью Первому каналу израильского телевидения — к полувековой годовщине со дня смерти своего учителя Жаботинского. В июле он согласился на еще одно интервью. С прежней твердостью в голосе он защищал свои действия в качестве главы Эцеля. На вопрос о том, какое решение на этом посту было для него самым трудным, он ответил: решение повесить двух британских сержантов. И, защищая свою позицию, подчеркнул, что после того, как Эцель казнил этих сержантов, англичане больше не повесили ни одного человека в Эрец-Исраэль. Он затронул также тему своих отношений с Бен-Гурионом, сказав, что они были «соперниками, причем не только в политике, — хотя было время, когда они даже были в дружеских отношениях»[634].
Он продолжал общаться с Кадишаем и Меридором, а также восстановил связи со старыми друзьями, в том числе с Йохананом Бадером. Они были знакомы еще с Польши (именно Бадер посоветовал Бегину вступить в армию Андерса, что дало ему возможность попасть в Палестину); на протяжении четырех лет Бен-Гурион, не желавший произносить имя Бегина в стенах Кнессета, говорил о нем как о «человеке, сидящем рядом с членом Кнессета Бадером». Их встречу устроил Кадишай. Бадер к тому времени практически утратил слух, а Бегин от слабости не мог говорить громко. Они общались записками, которые передавал все тот же Кадишай — впоследствии он вспоминал, что старым друзьям доставляло удовольствие, даже исчерпав тему разговора, просто сидеть рядом[635].
В начале марта 1992 года, после инфаркта, Бегин снова оказался в больнице «Ихилов». На его прикроватном столике лежали две книги: «Фишка дальше не идет: личные и частные сочинения Гарри Трумэна» и «Цена власти: Киссинджер в Белом доме» Сеймура Херша[636]. Бегин скончался через несколько дней после госпитализации, ранним утром 9 марта, в возрасте 79 лет.
Он оставил очень короткое завещание, в форме записки, адресованной Кадишаю. Вот его полный текст: «Мой дорогой Йехиэль! Когда меня не станет, я прошу, чтобы ты прочитал моим близким, моим друзьям и соратникам, эту просьбу. Я прошу, чтобы меня похоронили на Масличной горе, рядом с могилами Меира Файнштейна и Моше Баразани. Я благодарен тебе и всем тем, кто выполнит мою просьбу. С любовью, Менахем».
Меир Файнштейн и Моше Баразани, один — ашкеназ, другой — выходец из Ирака, были бойцами-подпольщиками (соответственно Эцеля и Лехи), которые, чтобы не быть повешенными англичанами, взорвали рядом с собой пронесенную тайком в тюремную камеру ручную гранату; за мгновение до смерти они запели «Атикву». Именно