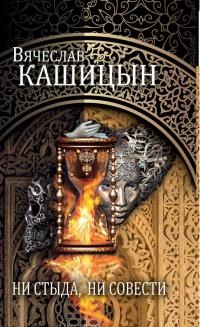— Хорошо. Тогда о том, о чем я действительно хотела сказать. Я могу не уметь молиться, но я с тобой, не думаю, что от этой ерунды что-то на самом деле зависит, — а теперь она рассержена!
— Ты знаешь, мам, если бы я собиралась помолиться или даже просто изо всех сил чего-то пожелать, сейчас я бы не знала, о чем просить. Понимаешь, о чем я?
Голубые глаза Мэдилейн теперь, возможно, уже не такие ясные, как раньше, но взгляд у нее может быть, очень острым.
— Я думаю, да. Да. Ты, наверное, думала, что я совсем дура, говорю тебе, чтобы ты не беспокоилась, и ты бы поняла, что я вру, если бы я сказала, что сама не беспокоюсь, поэтому не буду тратить время на эту чушь, я беспокоюсь, и ты, конечно, тоже, и хватит об этом. Но я хочу, чтобы ты знала, что, хотя мы и не способны молиться, я сконцентрирую на тебе всю свою силу и волю. И знаешь, я думаю, это что-нибудь да значит.
И доктор Грант тоже.
— И я тоже.
И она тоже: превосходно отточенная, беспримесная и собранная воля Мэдилейн — с такими вещами не шутят, это могучее оружие на стороне Айлы.
— И потом я буду здесь, я тебе помогу. У тебя будет много работы, и я сделаю все, все, что только смогу. — Ее маленькие зубы стиснуты, выцветшие глаза сверкают. — Я столько раз мечтала поменяться с тобой местами, но, в конце концов, это — все лишь потакание своим слабостям и пустая трата сил. Поэтому, раз мы не можем этого сделать, я сделаю что-нибудь еще, что угодно. Все, что поможет поставить тебя на ноги.
Воспламенившись, Мэдилейн яростно энергична. Она искрится и излучает нечто, ее маленькое тело становится грозным и огромным в своей серебристой, золотистой, темно-синей воле. Эти цвета нельзя увидеть; но Айла их как-то видит. Берт как-то назвал Мэдилейн «горячей штучкой», что Айле показалось странным и, возможно, неуважительным, и бросило небольшую тень на ее привязанность к нему. Возможно, он имел в виду именно это, именно это и видел.
— Спасибо. Мне так повезло, что ты — моя мама.
— Едва ли. Но мы все стараемся изо всех сил, правда?
Некоторые — да, некоторые — нет.
— И это пройдет. Будет нелегко, но ты сумеешь.
Мэдилейн произносит ободряющие слова, но то настоящее и несокрушимое, что она на самом деле имеет в виду, у нее во взгляде, который говорит: «Соберись, преодолей».
— Сейчас я уйду, но очень скоро мы увидимся. И все у тебя будет прекрасно. — Каждое слово звучит отдельно, отчетливо и подчеркнуто; не просто «увидимся позже», но обещание, требование. Она еще раз твердо и крепко прижимает ладонь ко лбу Айлы, и, когда она уходит, у Айлы создается впечатление, что ее обожгло горячим маминым касанием и напряженным взглядом.
Может ли быть, что она на самом деле, действительно видит этих людей в последний раз? Она не может это принять. Она знает, но это знание застит глаза, ослепляет, этого не может быть, хотя это возможно.
— Мам? — слышит она откуда-то от двери; естественно, голос Джейми.
Они устроили, чтобы у каждого была минутка с ней наедине, наверное, специально обсуждали: кому когда говорить слова, которые могут стать последними. Роскошь беззаботных, даже просто бездумных разговоров утрачена, и потому — с какими словами пришел Джейми? Ее дети вселяют беспокойство, под них нужно подстраиваться. Взять хоть Аликс, ее желание тратить время, чудесное, драгоценное время на ничего не значащего творца этой маленькой, ничтожной, едва заметной миру личной трагедии. И еще рывок Аликс на свободу, это объявление. Дети Айлы, ее сбившиеся с пути, оступившиеся отпрыски склонны преподносить сюрпризы. Как малыши, пытающиеся на цыпочках выскользнуть из спящего дома, прекрасно знающие, что нужна опаска и осторожность, они спотыкаются, падают, сшибают лампы. Они так часто неуклюжи; или просто невнимательны.
Джейми устраивается на том же стуле у ее кровати и, как доктор Грант, опирается на поручни, нависая над ней. На таком близком расстоянии сходство гораздо менее выражено.
— Ты знаешь, — начинает он, — как я благодарен, что ты всегда была со мной, и как сожалею о том, что со мной было столько проблем.
Он это и раньше часто говорил, едва ли это нужно повторять сейчас.
— Но все это выхватило из моей жизни здоровенный кусок. (Из ее жизни тоже, могла бы сказать она, не говоря уже о жизни Лайла, но ладно.) И я отстал от большинства своих ровесников. Я знал, что не хочу всю жизнь провести в цветочном магазине, просто я как бы давал себе время подумать, как можно все изменить. А теперь я чувствую, что пора действовать. Я хочу сказать, что все это, — и он делает широкий неопределенный жест, так похоже на Аликс, может, он подхватил это от нее, как корь, — заставляет задуматься.
Задуматься о чем, о том, что жизнь коротка, или о том, что ни в чем нельзя быть уверенным? Что всякое бывает? Плохое всякое, хорошее, о чем?
— И я подумал, что ты захочешь узнать, что Лайл говорит, что он мне поможет выяснить, какие школьные курсы мне нужно пройти, или я смогу просто сдать квалификационный экзамен, а потом я, наверное, буду поступать в университет. Я не думаю, — и он внезапно улыбается так ослепительно, что она почти снова видит своего маленького мальчика, того, без морщин и теней, еще без печалей и без преступлений, — что таким опытом нужно разбрасываться. Должен же он на что-то сгодиться. Наверное, я буду работать с теми, у кого проблемы. Может, с наркоманами. Я об этом уже говорил раньше, но до сих пор пальцем не пошевелил. Я так думаю, пора. Самое время.
Явная и чистая победа, сто процентов ее детей достигают просветления просто за счет того, что стоят и смотрят на нее. Возможно, она была не безупречной и не во всем разумной матерью, но в последнее время она, похоже, превратилась в полезную мать.
Так же, как и по поводу Аликс, расставшейся с Умиротворением, если и не с умиротворением, она говорит:
— Это очень хорошая новость, — и еще: — Я тебе помогу, чем только смогу.
В конце концов, возможность может и представиться. И потом, снова:
— Я очень горжусь тобой, Джейми.
— Спасибо. Я просто хотел, чтобы ты знала, на всякий случай. И я тоже тобой горжусь, мам. Я даже не представляю, как это тяжело, по ты здорово справляешься. Вроде примера, если только это не слишком идиотски звучит.
— На мой взгляд, нет. Я совсем не против.
Он хмурится:
— Ты сможешь вынести еще немного новостей?
Мама родная. Возможно, нет.
— Потому что я не знаю, захочешь ли ты это слушать, но папа просил передать, что он о тебе думает.
Папа. Господи боже. К чему ждать операции, если сердце может захлопнуться в любой момент, когда твой ребенок сначала убаюкает его, а потом стукнет молотком?
— Ну, — продолжает он извиняющимся тоном — она, наверное, смотрит на него со слишком явным негодованием, — он просил меня, чтобы я тебе сказал. Я обещал. И потом, я решил, что так нужно.