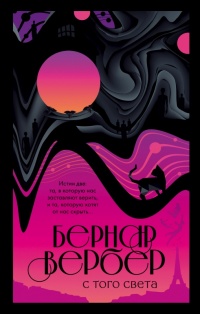Дело в том, что теперь я не могла не принимать во внимание настроение Ольги; нет, мысли людей не были безобидным дымком где-то внутри их головы, они заполняли землю, и я в них растворялась. Ольга вынудила меня столкнуться с истиной, которую до тех пор, как я уже говорила, мне удавалось ловко устранять: другой существовал, так же, как и я, и с той же очевидностью. В силу своего характера, а также роли, которая ей отводилась в трио, Ольга упорно сохраняла сдержанность; на какое-то более или менее длительное время она могла без оглядки отдаваться дружеским чувствам, но всегда вовремя спохватывалась; у нас не было общности планов, а ведь только это обеспечивает постоянство согласия. Вдали от меня она смотрела на меня посторонними глазами, что превращало меня в объект, порой в идола, а то и во врага; для нее опасность заключалась в том, что, не помня прошлого и отвергая будущее, она решительно и безоговорочно утверждала истину данного момента; если какое-то слово, жест, решение, которое я принимала, ей не нравилось, я ощущала себя навсегда и целиком ненавистной. Я снова обретала контуры, границы; поступки, которые я считала похвальными, обнаруживали вдруг лишь мои недостатки; моя правота становилась виной. По правде говоря, Ольга не упорствовала в неприязни, но я оставалась настороже; внутренне я сердилась на нее, обвиняла, осуждала ее. То есть, иными словами, я никогда не судила себя со всей строгостью, но зато отчасти я утратила уверенность и страдала от этого; мне требовалась определенность, малейшее сомнение выводило меня из себя.
Еще в большее смятение меня повергли глубокие разногласия, противопоставлявшие порой меня Сартру. Он всегда старался не говорить и не делать ничего, что могло бы испортить наши отношения; как обычно, наши споры бывали крайне острыми, но без малейшей досады. Тем не менее мне пришлось пересмотреть некоторые из постулатов, которые до тех пор я считала согласованными; я призналась себе, что ошибкой было объединять другого с собою в двусмысленности этого слишком удобного слова: мы. Определенные события каждый из нас проживал по-своему; я всегда утверждала, что слова не в силах отразить живую реальность: необходимо было делать из этого вывод. Я лукавила, когда говорила: «Мы одно целое». Согласие между двумя индивидами никогда не даруется просто так, оно должно бесконечно завоевываться. С этим я готова была смириться. Однако вставал другой, более мучительный, вопрос: в чем заключалась истина такого завоевания? Мы полагали — и феноменология подтверждала гораздо более давние наши убеждения, — что время выходит за пределы мгновений, что чувства существуют независимо от «сердечных перебоев»; но если они поддерживаются лишь клятвами, образом действий, запретами, не лишатся ли они, в конце концов, своей сущности и не уподобятся ли окрашенным гробам, упомянутым в Священном Писании? Ольга неистово презирала волюнтаристские построения, этого было недостаточно, чтобы поколебать меня, но Сартр в ее присутствии тоже поддавался беспорядочным эмоциям. Он испытывал беспокойство, радость, приступы ярости, которых не ведал со мной. Болезненное чувство, которое я из-за этого испытывала, было больше, чем ревность: временами я себя спрашивала, не покоится ли все мое счастье на одном большом обмане?
В конце учебного года и наверняка по причине неизбежности расставания, наделявшей каждое мгновение знаком бесповоротности, отношения Сартра и Ольги обострились. Между ними произошло несколько серьезных размолвок, и они перестали встречаться. В силу безотчетного стремления к компенсации Ольга удвоила свое внимание ко мне; устав от работы, я позволила себе передышку, и в течение нескольких дней почти все свое время мы проводили вместе. Иногда по вечерам нас сопровождал Марко. Прилегающие к набережным маленькие улочки заполняли иностранные матросы, бродившие в ласковой ночи; Марко заговаривал с ними; он водил нас в бары, где проводили время «прибывшие». Мы возвращались туда и без него; Ольга очень хорошо говорила по-английски, и мы подолгу беседовали с белокурыми мужчинами, приехавшими из далекого далека. Был там один норвежец, очень красивый, которого мы встречали несколько раз. Он спросил, как нас зовут.
— Ее зовут Кастор, — сказала Ольга, указав на меня.
— Тогда, значит, вы Полидевк, — весело отозвался норвежец.
С тех пор, завидев нас, он бросался к нам с восторженным криком: «А вот Кастор и Полидевк» и целовал нас в щеки. Ночь мы заканчивали в кафе-ресторане «У Нико», открытом до четырех часов утра, туда наведывалась золотая молодежь; это было единственное место, где можно было поужинать после полуночи. Мне нравились наше бродяжничество и исключительная близость, вновь установившаяся у нас с Ольгой. Только я знала, что Сартр не без горечи смотрел на это возрождение, которое дорого ему обходилось. Я чувствовала себе чуть ли не виноватой по отношению к нему; во всяком случае, в эти дни он уже не воспринимал меня как союзницу, и это разногласие отравляло воздух, которым я дышала.
Ольга даже не оформила свидетельство о праве преподавать, и родители писали ей гневные письма: в начале июля она уехала в Бёзвиль. Мне ее не хватало. Между тем атмосфера, в которой существовало трио, в конце концов стала такой гнетущей, что для меня было облегчением вырваться из нее и погрузиться в легкие отношения товарищества без особых последствий. В «Пти Мутон» на короткое время приехал Бост, к которому Марко проникся глубокими дружескими чувствами; по вечерам мы трое обегали более или менее сомнительные кабачки, которые Марко ухитрялся отыскивать. Улица Кордельеров была не такой манящей, как улица Галионов в Гавре, но и там тоже сияли фиолетовые звезды, красные мельницы, зеленые коты. Однажды ночью Марко барственным жестом поприветствовал содержательницу публичного дома, сидевшую у входа в какой-то коридор, он переговорил с ней, и она провела нас в своего рода жалкий зал ожидания. Несколько женщин в длинных платьях сидели на деревянных скамейках. Марко предложил выпить чахлой блондинке и с чрезмерной учтивостью стал задавать ей вопросы. Блондинка смущенно отвечала, а я сочла, что Марко поступил бестактно. Хотя обычно он мог позволить себе что угодно: он располагал к себе. С тех пор как Ольга вернулась к семье, Сартр легче переносил ссору с ней; в Руане настроение у него было очень хорошее. Вечер я проводила с ним. «У Нико» мы ели яичницу, а около полуночи картинно являлся Марко; он нес на плечах Боста, опьяневшего от двух рюмок перно и хохотавшего во весь рот. Его веселость передавалась нам, и мы вчетвером устраивали страшный шум. И мне и Марко пришло время расстаться с Руаном: наша репутация была уже серьезно подпорчена. Но мы оба получили назначение в Париж: такое продвижение наполняло меня радостью. Сартр в следующем году должен был покинуть Гавр. Не знаю, по какой причине — наверняка речь шла о том, чтобы его должность отдать какому-то родственнику или знакомому — туда пригласили нового преподавателя философии. Взамен Сартру предложили дополнительный курс в лицее в Лионе для подготовки учеников в Эколь Нормаль. Его родственники и мадам Лемэр оказывали на него сильнейшее давление, чтобы он согласился, но Лион был далеко, и под предлогом того, что дополнительный курс представлял собой повышение, для Сартра существовал риск остаться там надолго. Он предпочел класс по подготовке на степень бакалавра в Лане; это было недалеко от Парижа, где, учитывая скромность выбранного им назначения, у него были все шансы сохранить его и на следующий год. Я решительно поддержала его.