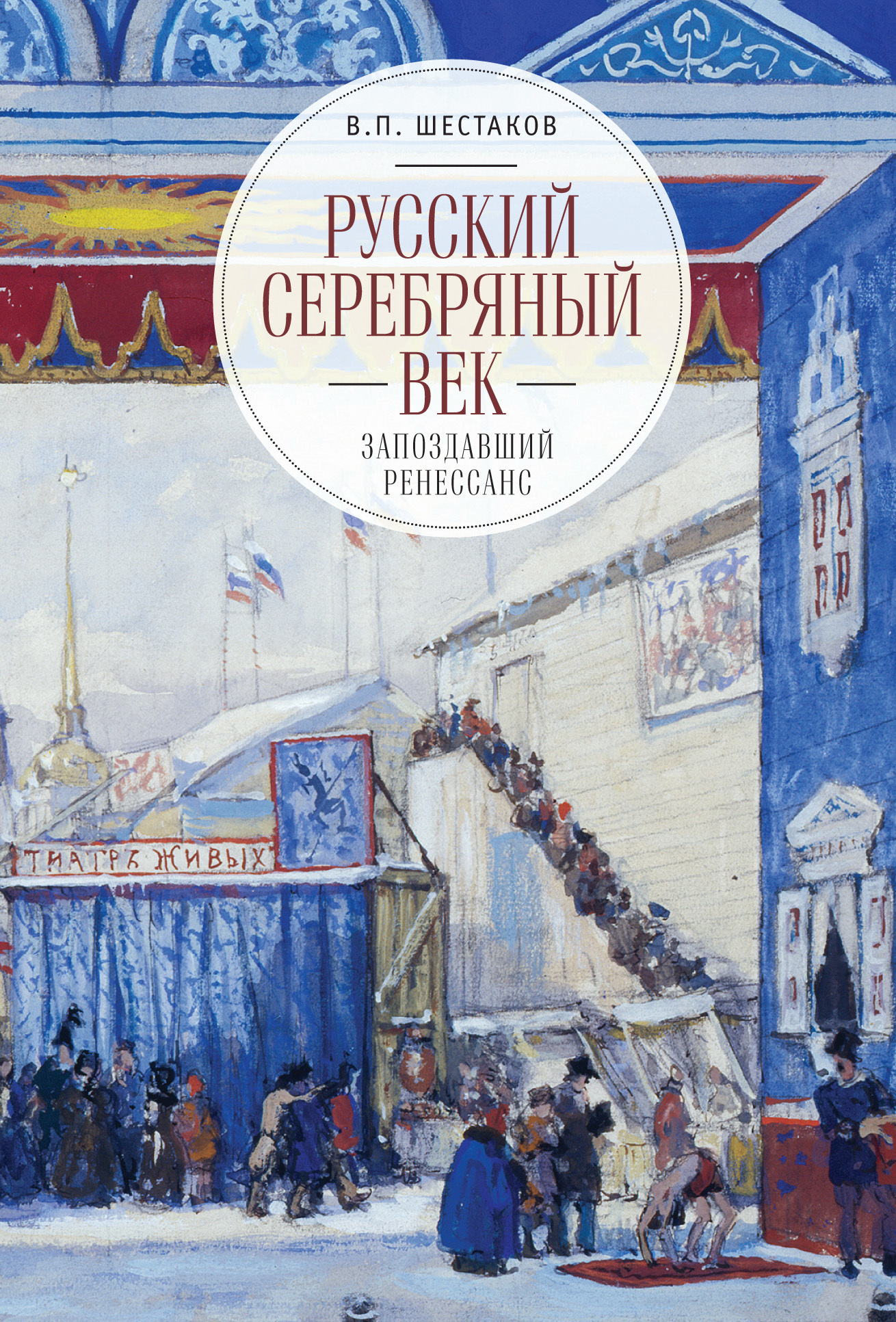раз за разом. Та ли это книга, которую ты задумал написать? Неужто это всё?
Или, положим, роман продвигается хорошо, иногда случается и так (в противном случае можно сойти с ума). Таким образом, даже если ты пишешь медленно или того медленнее печатаешь, слова выстраиваются на страничке, и тебе хочется продолжать. Затем ты перечитываешь текст. Может быть, ты и не осмеливаешься ощутить удовлетворенность результатом, но всё же тебе нравится, что получилось. Ты получаешь удовольствие – удовольствие читателя – от того, что видишь на странице.
Сочинительство в конце концов – это череда дозволений, которые ты даешь себе для того, чтобы выразиться определенным образом. Изобретать. Прыгнуть. Лететь. Упасть. Найти характерный стиль повествования и выражения своих мыслей – то есть обрести собственную внутреннюю свободу. Быть строгим, не опускаясь до самоуничижения. Не слишком часто останавливаться, чтобы перечитать написанное. Позволить себе думать, что дела идут хорошо (ну или не слишком плохо), просто следовать выбранному курсу, не дожидаясь порывов вдохновения.
Разумеется, незрячие писатели не в состоянии перечитать надиктованное. Возможно, это менее значимо для поэтов, которые часто сочиняют в уме, прежде чем записать вещь на бумагу. (Поэты в гораздо большей степени, чем прозаики, живут слухом.) Но невозможность видеть не означает, что невозможно вносить исправления. Разве мы не воображаем себе дочерей Мильтона, которые после целого дня диктовки Потерянного рая читают строчки отцу, а затем вносят в текст его правку? Однако писатели-прозаики – эти дровосеки слов – не способны удержать всё в голове. Им нужно видеть, что они написали. Это должны ощущать даже самые плодовитые писатели. (Так, Сартр, когда он ослеп, провозгласил, что с писательством покончено.) Попробуйте представить себе грузного, уязвимого Генри Джеймса, который ходит взад и вперед по комнате в Лэм-хаус, сочиняя вслух и надиктовывая Золотую чашу секретарю. Если оставить в стороне вопрос, как вообще можно надиктовывать позднюю прозу Джеймса, а тем более под треск машинки Ремингтон образца 1900 года, не готовы ли мы предположить, что Джеймс перечитывал напечатанный текст и при этом испещрял корректуру правками?
Два года назад, когда я снова стала онкологическим пациентом и вынуждена была прервать работу над почти завершенным романом В Америке, подруга из Лос-Анджелеса, понимая мое отчаяние и страх не закончить книгу, предложила приехать в Нью-Йорк, чтобы под мою диктовку напечатать оставшуюся часть романа. Правда, первые восемь глав были сделаны (то есть написаны и многократно вычитаны), и я приступила к предпоследней главе, так что радуга двух последних глав уже сияла в небе. Однако я вынуждена была отказаться от ее трогательного, щедрого предложения. Это не от того, что тяжелая химиотерапия и морфий слишком затуманили мое сознание и я не могла вспомнить, о чем собиралась писать. Нет, я должна была видеть, что пишу, а не только слышать строчки. Я должна была иметь возможность перечитывать.
Чтение обычно предшествует письму. Побуждение писать чаще всего уступает желанию почитать. Из чтения, из любви к чтению вырастает мечта о писательстве. Уже много позже, когда человек стал писателем, чтение книг, написанных другими, – и перечитывание любимых книг – неудержимо отвлекает от сочинительства. Отвлечение. Утешение. Мука. Да, а еще вдохновение.
Не все писатели готовы с этим согласиться. Помню, как однажды я говорила Видиадхару Найполу о любимом мной английском романе XIX века – романе очень известном, – который, как мне представлялось, должен был вызывать в нем такое же восхищение, как во мне, как в каждом ценителе литературы. Но нет, он сказал, что его не читал, и, заметив тень удивления на моем лице, добавил сурово: «Сьюзен, я писатель, а не читатель».
Многие пожилые писатели утверждают, по различным причинам, что мало читают, воспринимая чтение и письмо как вещи в известном смысле несовместимые. Может быть, для некоторых писателей так оно и есть. Если причина состоит в нежелании попасть под чужое влияние, то это представляется мне пустой, необоснованной тревогой. Если же причина состоит в нехватке времени – в сутках конечное число часов, и часы, проведенные за чтением, отнимаются от времени сочинительства – это аскеза, к которой я лично не стремлюсь.
Старая фраза «погрузиться в книгу» – не сотрясение воздуха, а отражение подлинной, завораживающей реальности. Вирджиния Вулф сказала в одном из писем: «Иногда мне кажется, что рай есть беспрерывное, неисчерпаемое чтение». Уж конечно, небесное здесь – в том, что, по словам той же Вулф, «состояние чтения заключается в полном устранении эго». К несчастью, мы не теряем свое «эго» – устранить «эго» так же невозможно, как обогнать собственную тень. Однако бестелесный восторг чтения подобен трансу и может сообщить нам чувство того, что мы отказались от «эго».
Подобно чтению, чтению взахлеб, писательство – вселение в другие личности – также можно ощутить как потерю самого себя.
Сегодня большинство людей полагает, что сочинительство – это разновидность самосозерцания. Также говорят – самовыражения. Учитывая, что мы, дескать, более не способны на подлинно альтруистичные чувства, мы не способны и писать о ком-либо, кроме как о себе самих.
Однако это не так. Уильям Тревор говорит о смелости неавтобиографического воображения. Почему бы не писать для того, чтобы убежать от себя, – так же, как пишут для того, чтобы выразить себя? О других писать гораздо интереснее.
Нет нужды говорить: я дарю всем своим персонажам частички себя. В романе В Америке мои иммигранты из Польши достигают Южной Калифорнии – они находятся близ деревни Анахайм, на дворе 1876 год – и, несколько углубившись в пустыню, попадают под жуткие чары всепоглощающей пустоты; в этом эпизоде я основывалась на собственных детских воспоминаниях о прогулках в пустыне Южной Аризоны – близ тогда еще маленького городка Тусон, в 1940-е годы. Согласно первой версии этой главы, в пустыне Южной Калифорнии росли гигантские кактусы сагуаро. Ко времени написания третьей версии я неохотно убрала сагуаро. (Увы, в 1876 году на западе от реки Колорадо этих кактусов попросту не было.)
Я пишу о том, что не есть я. Ибо то, что я пишу, умнее меня. Потому что я могу это переписать. Мои книги знают то, что некогда знала я – знала случайно, урывками. Поиски удачных слов для выражения своих мыслей не становятся легче даже после многих лет сочинительства. Наоборот.
В этом состоит огромная разница между и письмом, и чтением. Чтение – это призвание, навык, который неизбежно становится лучше с практикой. В качестве писателя мы в основном накапливаем неопределенность и тревогу.
Всякое чувство несоответствия, несообразности, возникающее у автора – по меньшей мере, у рассматриваемого автора, – основано на убеждении, что литература имеет значение. «Имеет значение» – это, конечно, слишком бледная фраза. Речь об